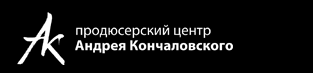Мои 60-е
Фрагмент статьи:
Когда говорят «60-е», «шестидесятники», создается ощущение какой-то странной, зеркально перевернутой парадигмы: Запад сдвинулся влево, Восток - вправо. В 60-е годы Европу потрясли левомарксистские движения, увлечения маоизмом, троцкизмом, благополучные страны захлестнула волна забастовок. Крен влево был настолько силен, что де Голль вынужден был принимать чрезвычайные меры.
А в то же время в России внутреннее освобождение от сталинистских догм, получившее название «оттепель», сопровождалось сдвигом вправо, в буржуазные ценности. Начиная с конца 50-х, было разрешено заниматься некоторыми поисками в области языка при сохранении так называемого социалистического содержания. Появились фильмы Кулиджанова, Хуциева, Алова и Наумова, Чухрая, Данелии и Таланкина, Бондарчука - в ту пору это было молодое поколение, пришедшее на волне десталинизации.
Что касается моей судьбы, то перевернутость этой парадигмы я ощутил уже в середине 70-х, когда привез в Рим «Романс о влюбленных». Бертолуччи сказал: «Ты меня очень расстроил. Мы у себя в Италии боремся с засильем американизма, а твои герои ходят в джинсах, играют на гитарах рок-мелодии, и это ты возвел в идеал». Мне очень хотелось тогда быть левым, но только жить в Италии. А еще лучше, в Англии: как хорошо жили там коммунисты! И маоисты, и троцкисты: сиди себе у камина и низвергай буржуазные ценности...
На чем строилась новая режиссура? Прежде всего, на фактуре. Из советских фильмов тех лет буквально перла искусственность, пришедшая как наследство из 30-х годов. Фанерные декорации, «нормальный портретный свет» по голливудским канонам, которым учили во ВГИКе: тут надо дать контровичок, тут подсветить тени. Эта фактура, между прочим, в Голливуде осталась и по сию пору: все должно быть видно, герои должны определенным образом разговаривать, определенным образом смотреть в камеру - все это в Европе было взорвано неореализмом. Появилась реальная фактура, не имевшая ничего общего ни с Голливудом, ни с советским кино. Если вспомнить, хотя бы, Пырьева, то он до самого конца был безразличен к фактуре. Мы это называли «фанера». Худшего приговора, чем «это фанера»" для нас тогда не было. Первым и главным нашим желанием было добиться правды фактуры. В «Первом учителе» я более всего был поглощен этим, но тем же мы с Тарковским занимались и в «Катке и скрипке», и даже в «Мальчике и голубе». Нас волновали трещины на асфальте, облупившаяся штукатурка, мы добивались, чтобы зритель не ощущал грима на лицах и видел грязь под ногтями героев. Тарковский на этой фактуре буквально повредился. Он в любом кадре маниакально добивался фактуры, никогда ее не выхолащивал, до самого последнего своего фильма. Язык его, конечно, развивался, но фактура всегда оставалась первостепенно важной. Все происходящее было погружено в густо замешанную фактуру. То, как картина выглядела, уже делало ее выдающимся произведением искусства. Все остальное (язык, философия, эмоциональное наполнение) к этому прикладывалось. Оно, естественно, тоже присутствовало, но, прежде всего, - фактура. Это было разительно непохоже на привычное советское кино!..