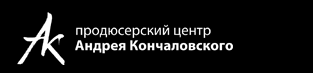«В театре вы имеете возможность работать с гениями»
Тема: Спектакль «Чайка» в театре им. Моссовета
Беседа с Григорием Заславским на радио «Маяк».
Андрей Кончаловский: Здравствуйте.
— Вы выпускаете сейчас в театре Моссовета, вернее, на сцене театра имени Моссовета «Чайку».
— Да.
— Соответственно, все ваши интересы связаны с этим настолько, что я понял, что вы даже инаугурацию не смотрели по телевизору и не были в Кремле.
— Да, я не был в Кремле, но меня не пригласили. Даже если бы меня пригласили, то вряд ли я бы пошел, потому что действительно очень занят. Надеюсь, посмотрю сегодня вечером по телевизору.
— Вам интересно это как политическое событие или как театральное также?
— Я не знаю, как это сделано. Всегда такая вещь должна быть очень красивой, должна быть торжественной, должна вызывать чувства определенные, я бы сказал, уважение к власти и к государству. Очень важно, чтобы государство вызывало уважение у жителей не только своей страны, но и вообще в мире.
— Насколько я знаю, «Чайка» - это долгоиграющий проект. Был спектакль, который вы ставили в Париже, в «Одеоне», и почти 10 лет тому назад возникла идея перенести этот спектакль в Москву. Тогда даже Давид Смелянский, продюсер, ездил в Париж посмотреть, не сохранились ли декорации. Сейчас все делалось заново, или это не совсем повторение?
— Повторений вообще не может быть механических. Там французские артисты, здесь - русские. Спектакль делается Давидом Смелянским и «Боско ди Чильеджи», в рамках фестиваля «Боско ди Чильеджи» пригласил несколько режиссеров поставить несколько чеховских пьес.
— Вообще, по-моему, у этого фестиваля уже больше оснований называться фестивалем имени Чехова - три премьеры за фестиваль.
— Конечно, собственно, они назвали себя «Черешневый лес» - это уже какая-то аллюзия с чеховским временем, с этой эпохой и т.д. Они в этом смысле относятся с большим уважением к культуре конца XIX - начала XX вв.
— А все-таки что можно было бы повторить и что хотелось бы повторить из того, что было в «Одеоне»?
— Трудно, так нельзя говорить. Вы знаете, когда играешь симфонию Прокофьева и дирижируешь, то не спрашивают же режиссера, вот вы играли десять лет назад в Питсбурге, а сейчас дирижируете в Нью-Йорке, что хочется повторить? Ответ такой: ноты, повторить ноты надо. А ноты написаны очень серьезные и ответственные, это же великий писатель! Поэтому надо повторить текст. А уж вопрос интерпретации не зависит от возраста того, кто интерпретирует, от того, как режиссер меняется. Собственно, работа режиссера сводится к тому, чтобы он попытался понять автора. А уровень понимания автора зависит от его интеллектуального уровня, растет ли он, учится ли он чему-то в жизни и т д.
— Вы за 10 лет стали умнее, как вы думаете?
— Я думаю, что не глупее уж точно. Я вам должен сказать, я очень люблю «Маяк». Я с удовольствием слушаю вашу станцию. Она мне напоминает, во-первых, те радиостанции, которые мы слушали 10 лет назад, у него нет страшного маркетинга, этого жутко прессинга, бесконечных клипов. У вас сохраняется нормальный, более-менее человеческий ритм, что очень важно. И потом ваши новости я люблю.
— Ритм, это, кстати, то, о чем говорят, когда говорят о Чехове. У Чехова чуть ли не самое главное - это ритм. Для вас это важно? Важно ли для вас сегодня, ведь эта пьеса еще очень длинная, и когда их сокращают, то, конечно же, приходится не только сокращать слова, но и выбрасывать многое из мыслей Чехова.
— А кто сокращает? Те, кто сокращает, значит, не в состоянии понять его. Если я бы, повторяю, играл симфонию Чайковского и решил бы выбросить вторую часть, понимаете, это значит, что я просто не могу сыграть хорошо.
— Но когда сегодня играют Чайковского, то очень часто берут какую-то одну часть, не только Чайковского, любого автора, берут и исполняют ее как некое целое произведение.
— Я не знаю. Может быть, чтобы из этого сделать попсу, как говорится, поп-арт, поп-культуру. Поп-культура и отличается от культуры тем, что поп-культура строится вся на деньгах, а культура строится на жизни духа человеческого.
— Я к тому, ваш спектакль будет длинный или не очень?
— Мой спектакль будет длиться ровно столько, сколько его интересно смотреть.
— Сколько, три, четыре часа?
— Ну что вы.
— Насколько, вы считаете, сегодня может зрительского внимания хватить?
— Зритель, который идет смотреть Чехова, это люди, которые подготовлены к тому, что это будет чеховский текст и чеховский сюжет. Это не просто человек, который свалился с Марса или с Луны, и думает, что же такое тут происходит? Это так же, как те люди, которые любят Шекспира и ходят смотреть «Гамлета» в разных интерпретациях. Нет, я думаю, что это будет меньше трех часов. Когда вы говорите о ритме...
— Книги целые написаны о ритме у Чехова.
— Вообще книги написаны о многом, по многим поводам, и очень много бессмыслицы в этих книгах или определенного смысла, который, может быть, люди улавливают. Я считаю, что ритм важен вообще во всем, и в Чехове тоже. Но если вы играете, ставите фильм, ставите Шекспира или водевиль, везде ритм играет роль. Искусство драматургии связано с тем, что оно развивается во времени. Есть начало, есть середина, есть конец. Оно начинается когда-то и кончается когда-то. Поскольку это во времени, то ритм играет существенную роль, в отличие, скажем, от живописи или скульптуры.
— У вас голос сорван, это вы на репетициях сорвали?
— Да нет, просто простудился. Я надеюсь, что слушатели меня понимают и простят. У меня голос стал сегодня, как у Армстронга.
— Еще как у Галины Волчек, у нее тоже такой голос, чуть-чуть осипший.
— Я Галю очень люблю, это для меня комплимент.
— А вообще на репетициях вы часто показываете актерам, насколько для вас зависимость и сходства, различия между тем, как человек репетирует и ставит фильм, и тем, как он работает в театре, разные. Для вас это разные вещи или нет?
— Дело в том, что театр и кино - это абсолютно разные профессии. Есть очень талантливые и великие киноактеры, я уж не говорю о кинозвездах, которые не в состоянии играть в театре. Том Круз сам из себя представляет полную посредственность как артист, в кино он живет за счет огромного института, который называется Том Круз. Но если посмотреть на Тома Круза без всяких предубеждений, то вы увидите, что это никакой артист. Он всегда играет одно и то же, он даже не играет. У него даже морщин нет, лицо, как говорят американцы, как попка у ребенка, ни одной морщины. Когда у людей нет морщин, у них невыразительные лица. Сейчас все наши дамы колют себя чем-то в лоб, чтобы морщин не было. У них становятся лица, как маски, они не выражают ничего. У большого артиста всегда есть морщины, потому что у него выразительное лицо. Тома Круза если поставить на сцену и дать ему монолог Гамлета, будет ясно, что он абсолютное ничтожество, что он не артист. В то время как в кино есть и очень талантливые артисты, которые замечательно играют в кино и не в состоянии играть в театре по той же самой причине. Кино - это искусство одного дубля, короткие перебежки, это спринтерские вещи. А в театре надо прийти и три часа держать роль, три часа держать публику. Потом прийти на следующий день и опять держать. Это абсолютно другая профессия. Это профессия длинной дистанции. Это две разных профессии. Поэтому режиссура в театре заключается в том, чтобы построить такую конструкцию, изобразительную или психологическую, или музыкальную, которая бы работала каждый день, независимо от того, в хорошем настроении артист или в плохом.
— Как вы выбирали актеров и в какой мере это спектакль театра имени Моссовета, в какой мере это спектакль «Боско ди Чильеджи».
— Нет, это спектакль не «Боско ди Чильеджи», это спектакль Кончаловского. «Боско и Чильеджи» - это продюсер. Часть артистов из театра Моссовета, прекрасных артистов, которых мы все знаем. Я сейчас не хочу называть имена. Люди посмотрят. Есть артисты, которые не работают в театре, которые являются просто киноактерами, артистами других театров. Мне кажется, что я собирал артистов по двум качествам. Первой качество - ощущение детскости, клоуна. Все большие артисты всегда имеют это качество, не боятся быть смешными, не боятся гротесков, не боятся быть наивными. Эти все качества только у определенных артистов есть - Леонов, Чурикова, предположим, Ахеджакова.
— Но они в вашем спектакле не заняты? Я имею в виду тех, кто мог бы участвовать?
— Я просто говорю о тех, кто мог бы участвовать по качествам своим. Другое качество - это интеллигентность.
— Сегодня в актерах есть это качество?
— Конечно, люди же не глупеют, если становятся артистами. Они просто от природы либо интеллигентны, либо нет. Когда я говорю «интеллигентность», это значит способность понять Антона Павловича, способность понять то время, способность понять замысел, разделить этот замысел, который для меня дорог. Собственно, поставить спектакль, принцип которого в том, что если бы Антон Павлович пришел смотреть этот спектакль, то он хотя бы не рассердился. А если бы был благодарен, то вообще было бы полное счастье.
— Интересно, во Франции и в России вам приходилось рассказывать что-либо о Чехове, не о своем понимании Чехова, а просто о Чехове?
— Нет, артисты все знают «Чайку» во всем мире, тем более что там тоже были интеллектуальные артисты, умные, достаточно образованные. Чехова как драматурга знают все, имя и текст. Вы знаете, имя и текст еще не значит понимать, что он хотел сказать. И вся загадка Чехова-драматурга, в отличие от Чехова-прозаика и писателя, заключается в том, что прозаик понятен абсолютно, а драматург не совсем понятен. Недаром Антон Павлович так в основном неудовлетворен интерпретациями даже Немировича-Данченко и Станиславского. Потому что он не был драматургом коммерческим, он был драматургом, я бы сказал, символическим. Он пытался создать театр символизма, как он его понимал.
— Андрей Сергеевич, вы же один из тех, кому удалось почти невозможное в свое время, когда вы «Дядю Ваню» сделали как фильм, перенесли совершенно театральное сочинение в абсолютно киношное пространство.
— Я рад, что вы это заметили.
— Есть ли проблема для вас в постановке театральной пьесы на театральной сцене? Увидев киношность пьесы Чехова, наверное, вам уже скучно было в какой-то момент возвращаться в театр?
— Это неправда. Пьеса Чехова не киношная. Вообще нет такого понятия - киношная. Чехов не может быть киношным в своей драматургии. Чехов, проза его, гораздо легче переносится в кино, чем драматургия. Для того чтобы мне сохранить драматургию Чехова и сделать из этого кинофильм... это, в принципе, не кино, это средствами кино снятый театр. Это не спектакль, а театр, снятый средствами кино. Если вы посмотрите фильмы Бергмана, вы увидите, что очень часто бергмановские кинофильмы очень похожи на спектакли. Люди очень много говорят. Но это как бы другая специфика. Я должен сказать, что я сократил безжалостно «Дядю Ваню», для того чтобы сделать кинофильм, во имя того, чтобы сохранить паузы. Но никто этого не замечает, и слава богу, потому что я сделал это в достаточной мере деликатно, стараясь сохранить главное - течение времени, ритм, паузы и как бы смысл основной. Но, конечно, с точки зрения цензуры, вырубания Чехова для кино, для кинематографа я сделал довольно безжалостные купюры. Я бы никогда себе этого не позволил в театре. Дело в том, что кино вульгарно, в кино звук-то не играет большой роли. Изображение убивает любой звук. Если вы заметили, существует немой, Великий немой, правда, вообще без слов. Люди там открывали рот, а тапер играл музыку. Поэтому кинематографом может наслаждаться глухой человек, в то время как театр - это литература. И слепой человек может прийти в театр и наслаждаться пьесой, потому что вибрации голоса, интонации, дыхание зала, смысл - он весь звучит. Это слово. Абсолютно два разных процесса. Конечно, желательно, если бы слепой человек в театре получал удовольствие, то есть к тому же видел и не хотел бы закрыть глаза от того, что он видит на сцене, это было бы совсем хорошо. Мне иногда хочется закрыть глаза от того, что я вижу на сцене, потому что действие происходит не во время и не в эпохе, и не в атмосфере Чехова, а то ли в зоне, то ли на станции метро, то ли в каком-то бункере, то есть среди каких-то обломков после холокоста. Для меня это все абсолютно непонятно. И, мне кажется, Антон Павлович был бы в ужасе.
— Вы реалист, если говорить применительно к Чехову?
— Я не реалист, я просто пытаюсь понять Антона Павловича. Антон Павлович никогда себя не называл реалистом, он говорил: я художник, вот выражаю какую-то мысль определенную в определенных людях. Но, понимаете, мир Чехова и мир его героев - это мир Чехова и мир его героев. Да? Когда Чехова спросила Книппер-Чехова: «А что такое жизнь?» - он ответил замечательно: «Ты спрашиваешь, что такое жизнь? А что такое - морковка?» То же самое, морковка есть морковка, жизнь есть жизнь. И очень часто, глядя на современные интерпретации Чехова, некоторые режиссеры ставят Чехова так, что мне кажется, что омерзительные люди, в омерзительной стране живущие, или скучные люди, в скучной стране живущие. Но это не люди Чехова, живущие в стране Чехова.
— Те, кто придет смотреть «Чайку», они почувствуют, что это за страна встает за героями «Чайки»?
— Откуда я знаю? Я не знаю.
— Но вам хотелось бы, чтобы они почувствовали?
— А как же? Вообще вопрос даже наивный. Мне просто хотелось, чтобы люди смотрели, улыбались, смеялись, плакали, пугались, говорили: «Не может быть, так не может быть», а потом выходили и говорили «Да, только так может быть».
— Вы сказали, что в театре, и с этим трудно не согласиться, может получать удовольствие и слепой человек. В связи с этим, помимо чеховского текста, там будет какая-то музыка и чья это будет музыка, Чайковского или какая-то специальная?
— Эдуард Артемьев написал музыку для парижского спектакля моего тогда, когда меня Стреллер пригласил ставить. А здесь мы оставили эту музыку, потому что она изумительно подходит, она точно выражает настроение того, что мы хотели передать. И в этом смысле музыка, конечно, нужна. Но вообще, честно говоря, хороший спектакль может и без музыки жить, потому что музыка чувства важнее, чем музыка. Иногда музыки много в спектакле, а чувство мертво, как сухие листья опавшие.
— Если не ошибаюсь, то художником в спектакле в «Одеоне» был постоянный соавтор Стреллера Эцио Фриджерио.
— Так точно. И он же.
— Это его же концепция?
— Да, это его же концепция. Другая версия, но это его концепция. Та же концепция, которая была там.
— А костюмы будут, мне сказали, что вы пригласили Рустама Хамдамова.
— Да.
— Почему?
— Потому что художник по костюмам парижский, супруга Фриджерио, не смогла приехать. Мы стали пытаться найти эти эскизы, и как-то не совсем получаться стало. И я вспомнил о Рустаме, который меня всегда выручал. И он еще меня выручил 35 лет назад, когда «Дворянское гнездо» я ставил, мне нужны были костюмы, тоже там был завал, я попросил Рустама, чтобы он мне помог. И он тогда уже согласился, будучи просто выпускником ВГИКа. Поэтому я очень рад, что Хамдамов сразу откликнулся, тем более что это его эпоха.
— Я понимаю, что наши российские традиции отличаются от голливудских. И даже до сих пор все-таки наши режиссеры чаще всего сами отбирают актеров для собственных кинокартин.
—Уже, к сожалению, это проходит.
— Судя по сериалам, да, там уже есть такая строчка - режиссер по кастингу. Но все-таки в данном случае кто набирал всю эту команду? Хамдамова вы приглашали, а актеров всех вы искали?
— Нет, искал не я, но утверждал я. А как же? Антрепризный театр имеет одно преимущество: можно выбрать артиста, который наиболее подходит под роль. Режиссеры, главные режиссеры, ставящие в театре, они всегда имеют определенную дипломатическую задачу: как удовлетворить потребности труппы? Это сложная вещь, потому что в труппе есть свои самолюбия, свои таланты, стареющие звезды, предположим, и что-то еще. Об этом еще Мольер писал. И любой театр - это большой гадюшник талантливых людей или неталантливых. И очень часто это сложная вещь для режиссера, который ангажирован в театре, делать только спектакли с артистами театра. Хотя я не хочу сказать, что в театре Моссовета нет этих артистов. Безусловно, есть. Там можно было бы сделать спектакль с прекрасными артистами, которые бы целиком, но поскольку я не ангажирован театром Моссовета и не работаю в театре Моссовета, и в этом смысле у меня была роскошь помечтать немножко, кто бы мог сыграть и попытаться эту мечту удовлетворить.
— А все-таки в какой мере? Ведь фестиваль «Боско ди Чильеджи» завершится, в какой мере это будет спектакль театра Моссовета? Или это будет какой-то продюсерский театр?
— Это совместная постановка, которая будет, надеюсь, на сцене театра Моссовета как совместная постановка между театром Моссовета и Российским театральным агентством Давида Смелянского идти. Мне кажется, что если спектакль понравится зрителям, и зрители захотят его смотреть (вообще хорошие спектакли зрители ходят смотреть несколько раз), я бы играл его 3-4 раза в месяц, но только подряд.
— Сегодня даже критики не смотрят спектакли по несколько раз, а вы говорите о зрителях нормальных.
— Я думаю, что критики не смотрят, а зрители смотрят. Но зрители смотрят по несколько раз. Они идут на артистов, там разные есть причины. Но зрители могут смотреть и по несколько раз. Вообще же Москва - феноменальный театральный город. Другой вопрос, что театры разного качества. Но театральный город не потому, что много талантливых театров, а потому что много талантливых зрителей. 9 миллионов человек - это страна в три раза больше, чем Люксембург, или даже в 10 раз больше, чем Люксембург, я не знаю. Или Эстония, замечательная страна, маленькая Эстония, но как там может быть театр, когда там несколько сот тысяч зрителей на всю страну? Москва - это гигантская культурная столица мира. И театры в Москве, я бы сказал, по интенсивности взаимоотношений между зрителями и артистом на первом месте в мире. Другой вопрос, что культуры иногда не хватает, это другой вопрос, не сравнить даже с Францией или с Англией - это два наиболее продвинутых, я бы сказал, с точки зрения театрального искусства европейских. Про Америку можно забыть, там театра нет просто, он умер. Там есть Бродвей. Бродвей - это не театр. Бродвей - это массовая продукция, это так же, как «Макдональдс» или пепси-кола.
— Я понимаю, что сегодня границ нет, тем более границ уже давно не существует для вас, поэтому я не спрашиваю: вот сейчас поставите «Чайку», будете ли вы еще что-нибудь ставить в Москве? Для вас театр интересен сегодня? И хочется ли вам еще что-то такое поставить в театре - Чехова, не Чехова, я уж не знаю?
— Дорогой мой, театр гораздо интереснее, чем кино, для меня. Потому что в театре вы имеете возможность работать с гениями.
— Но не всегда же все-таки.
— Как не всегда? Вы имеете возможность, вас никто не заставляет ставить что-то другое. В театре у вас имеется возможность работать с Эсхилом.
— А, в этом отношении, с этой стороны уж точно, да.
— С гениями! Или с Шекспиром, или с Ибсеном, или со Стринбергом, с Чеховым, с великими абсолютно драматургами, с Ионеско. Поэтому другой вопрос, что, казалось бы, все устарело, это неправда. Великие не устаревают, потому что всегда есть возможность раскрыть чувства. Ведь современность не в костюмах и не в интерпретации за счет автора. Когда режиссер побеждает автора в пьесе, это небольшого стоит, тем более мертвого автора. Попробовал бы победить живого Чехова! Чехов бы закрыл спектакль. Я не знаю, слышали вы или нет, но замечательная легенда про Антона Павловича, кстати, по-моему, это было на «Вишневом саде», когда он в середине второго акта подошел к занавесу и сказал: «Стоп, стоп, занавес. Все, пьеса окончена». Станиславский спросил: «Антон Павлович, как окончена? У нас же два акта». «Нет, - говорит, - у меня пьеса должна идти 2 часа 30 минут. А у вас только два акта прошло». Понимаете? Это был человек, который точно понимал, какой ритм должен быть в его пьесе.
— Да, он, по-моему, рассчитывал, что 12 минут должен идти четвертый акт.
— Это замечательно, он имел абсолютное чувство ритма. И, собственно, восстановить это, это не значит, что сделать музей. Восстановить - это значит постараться разделить со зрителем чувства, которые испытывал Чехов или которые испытывал я, как я их себе представляю, чтобы зрители это почувствовали. И зритель будет плакать, смеяться, и будет сидеть, не думая, и не смотря на часы. Или не думая: «Ой, господи, боже мой», - а потом говорить: «Да, гениально». Питер Брук еще 15 лет назад написал в одной своей работе, была такая у него замечательная книга «Пустое пространство», он там написал: «Не понимаю, почему современный шедевр должен обязательно иметь обязательную порцию скуки?». Мне кажется, что очень часто возникает эта скука на пьесах Чехова от того, что со сцены льется то, что умным давно известно, а для глупых не интересно.
— Мне рассказывали, как какие-то американцы были в Москве в другом театре на очень длинном и неинтересном спектакле Чехова и были в восторге, потому что они были уверены, что вот эта скука является частью чеховской гениальности. К этой скуке себя приготовили, получили эту порцию и были удовлетворены. Но вы не ответили конкретно, будете вы что-либо ставить в театре или нет?
— Поэтому я говорю, это счастье, конечно, надеюсь, что если буду жив, во-первых, я надеюсь, что я поставлю обязательно Шекспира, обязательно Чехова и обязательно Стринберга. Я бы хотел коснуться этих трех миров. Может быть, и греческую трагедию удастся осилить, потому что очень сложно, потому что это абсолютно разные музыки, это разные темпераменты, это абсолютно разные образные ряды. И образный ряд очень важен. Когда я говорю «образный ряд» - это мир. Ведь мир Чехова, он один. Это не то, что пьеса одна отличается от другой. Там слова разные, там разные герои, казалось бы, но он один. Как Шопен. Вы послушаете по радио Шопена, вы узнаете - это Шопен. А вот это кто-то своровал у Шопена. То же самое и Чехов. Чехов один. Мир Шекспира - это единый мир. «Гамлет», «Макбет» или же «Сон в летнюю ночь», или «Буря» - это все один мир, чувственный, плотский, с Богом, с дьяволом, со спермой, с огнем, с кровью, с костями, с грубым юмором. Это Шекспир, это его мир, мир 16-го века Англии. А Чехов - это мир 19-го века Россия. Эсхил - это мир. И этот мир создать - потрясающе интересная задача для режиссера. Когда я говорю «создать мир», это не значит, что костюмы должны быть того века. Это должно пахнуть со сцены. Со сцены должна литься определенная энергия. И, собственно, эта энергия и есть музыка.
— Интересно, что мир Чехова - это отчасти и мир «Сибирского цирюльника». Вы об этом думали или нет? Это абсолютно те же самые годы.
— Нет, не согласен с вами. Мир Чехова и мир «Сибирского цирюльника» - это не совсем то. «Сибирский цирюльник» имеет очень определенную идеологию. «Сибирский цирюльник» сделан очень талантливым режиссером, который знает точно, что хорошо и что плохо.
— А Чехов не знает?
—Чехов никогда не знал, что хорошо и что плохо. Он как раз писал: «Вы хотите, чтобы я писал о конокрадах и говорил, что красть коней плохо? Это и так все знают». Поэтому Чехов как раз был такой замечательный писатель российский, который уехал в эмиграцию. Фридрих Горинштейн, замечательный писатель, мой друг, он написал небольшое эссе, которое называлось «Мой Чехов 68-го года». Как раз написал в год оккупации Чехословакии. И там он очень красивую мысль привел, что если Толстой и Достоевский были Дон Кихотами русской литературы, то есть они искали истину и атаковали ветряные мельницы, то Чехов был ее Гамлет. Он всегда говорил: «Я не знаю». И вот это «я не знаю» и есть величие Чехова.
— Мне очень интересно, каковы ваши отношения с продюсерами? С одной стороны, с Давидом Смелянским, с другой стороны, с Михаилом Куснировичем. И тот и другой - люди с художественным вкусом и в общем-то не без художественных амбиций. Сегодня, по-моему, уже нет театра и нет спектакля из модных спектаклей и модных театров, где бы ни значился среди тех, кто помогает, Михаил Куснирович с его компанией «Боско и Чильеджи», с другой стороны, Давид Смелянский - это постоянное сотрудничество с театром Et Cetera и много замечательных театральных проектов. Было ли с их стороны предложения по каким-то конкретным актерам?
— Были.
— Как вы к ним относились?
— Отрицательно.
— Отношения после этого?
— Замечательные. Они достаточно интеллигентные люди, чтобы понять, что у меня есть своя точка зрения и что ее надо уважать.
— Интересно, сейчас ведь все-таки спектакль отчасти приписан к сцене театра Моссовета. Он начнет жить какой-то своей жизнью. Кто-то из актеров вдруг по тем или иным причинам выходит из спектакля. Дальше как, они пригласят вас, чтобы ввести этого артиста, или, как в репертуарном театре, там третий, четвертый?
— А как же? Я не позволю ввести кого-нибудь другого. Вводить буду я. Что вы, это нельзя. Ансамбль - это такая же вещь, как, понимаете, нельзя вдруг в оркестре тубу заменить на унитаз.
— Понятно. Хотя вместо тубы часто дают какой-нибудь другой духовой инструмент.
— Это правильно. Но я как говорю, Баха тоже можно и на унитазе сыграть, но лучше играть на органе.
— Мне интересно, смотрели ли вы «Вишневый сад» Някрошюса, ваше отношение к этому спектаклю?
— Вообще не принято говорить ничего плохого. И англичане говорят, что если тебе нечего сказать хорошего, лучше замолчи. Но поскольку вы меня спрашиваете, я скажу: это мне бесконечно далеко. Я думаю, что Някрошюс - очень талантливый режиссер и был талантливым, когда открывал свой мир. Но мне кажется, что, во-первых, он не любит Россию, как все литовцы (я могу их понять), и все его спектакли о России, они о мерзости России. Это отвратительные люди в отвратительной стране. Там никого не любишь. Это первое. Второе: там, мне кажется, формально использован текст. В том смысле, что Чехов писал о нормальных людях, Чехов писал о нормальных, маленьких и скучных людях. Они могли быть эксцентричными, дураками, претенциозными, но такие нормальные люди. И самое трудное - сделать спектакль, где больно, страшно, где плачешь, смеешься и видишь трагедию нормальных людей.
— Интересно, а вы с кем-то из героев «Чайки» себя сегодня идентифицируете, вкладываете в кого-то чуть-чуть больше себя или видите в этом человеке что-то такое, что вам именно сегодня чрезвычайно близко, дорого?
— Дело в том, что у Чехова нет людей, на мой взгляд, которые отрицательные. Он их всех любит, несмотря на то, что они могут быть глупыми, ничтожными и разными. Он их всех любит просто потому, что они все умрут. И вот этот смысл, что мы все умрем, то, как Цветаева сказала «люби меня, хотя б за то, что я умру», вот это ощущение тщетности человеческой жизни и мечты, и, тем не менее, необходимость иметь эту мечту - это главное, что в Чехове проносится через всю его прозу вообще. И он написал очень красиво, что я вот сделал пьесы, а меня из-за этих пьес сделали каким-то плакальщиком и нытиком - это неправда, я писал комедию, вообще написал четыре тома веселых рассказов, о чем речь? Я вовсе не плакальщик. Я просто писал о людях. А почему-то люди, артисты, все время рыдают на сцене. Это очень важный момент. Он никак не мог перевести на язык театра свои литературные тексты. И с этой точки зрения, мне кажется, что это самое интересное, что есть в Чехове, и будет всегда интересно. И бесконечно будет до тех пор, пока есть театр, будут режиссеры, которые будут пытаться выразить что-то новое, открыть чего-то там, перепахать или сократить, выразить себя за счет автора. Мне кажется, что это неблагодарная задача для Чехова. Потому что Чехов оставил гигантское духовное наследие. И надо копаться в духовном наследии, а не в гробу его, где останки лежат, покоятся, и заниматься некрофилией некстати.
— Я вам уже говорил перед эфиром, что я читал и ваши книги две, а сейчас читаю книгу мемуаров одной женщины, которая работала в Министерстве культуры СССР. И вот она очень переживает, что происходит. И вот она пишет: «Умер Паустовский, последний великий русский писатель. После него остается пустое пространство». Но мы-то знаем, что после этого еще было какое-то количество писателей. И крупных писателей. Для вас сегодня есть кто-то из писателей, кто вас занимает, пусть не так, как Чехов, но кто вам интересен своим внутренним миром?
— Это очень сложный вопрос в том смысле, что я отношусь к числу людей, достаточно пессимистически глядящих на развитие мировой культуры.
— Поэтому комедию взялись ставить.
— Я берусь за театр, потому что надо делать свое дело. Нести свой крест и терпеть. Мое дело - режиссура. И я буду делать ее так, как я ее понимаю. Хотя на сегодняшний момент, театр, на мой взгляд, переживает, европейский театр, поскольку мы находимся в орбите европейского театра, переживает кризис. Эстетический кризис, который начался с началом постмодернизма. То есть обилие информации любой перевалило за потребность этой информации. Диджеи, например, что такое диджей? Перескакивает с одной пластинки на другую. Он становится сегодня почти художником.
— Да, это мастерство.
— Художник. Уже композитор не так важен. Или Дэвид Бэкхем. Красивый парень, здорово гоняет в футбол, играет здорово, действительно. Но он большая звезда в мире почему? Потому что век 21-й будет век футбола, скажем, а не Толстого. Так изменился мир. Мир изменился в сторону массовых культур. Массовые культуры те, которые приносят больше денег. Поэтому, с этой точки зрения, пепси-колу купить гораздо проще в любом городе в Индии, чем просто чистую воду. Хорошую чистую воду купить все труднее и труднее. Пепси-кола есть везде. И с этой точки зрения, мир переживает, я бы сказал, кризис индивидуализма. То, что происходит в Европе. Мы, к сожалению, находясь в европейской орбите, испытываем на себе все пагубные последствия постмодернизма. Если возьмете в этом смысле Китай, Японию, Латинскую Америку, Индию, Африку, великие континенты, Китай и Индия - две великие культуры, они этого, к счастью, не испытывают, потому что они очень стойко тысячелетиями воспитывали свою культуру. Они не переживают то, что переживаем мы. Мы - страна периферическая, страна на периферии Европы. Европа пришла через полторы тысячи лет после того, как она началась, или через две. Поэтому наша культура очень нестойкая. И я только надеюсь на национальные фольклорные корни, которые все-таки у нас есть, которые могут выстоять этот страшный напор информативный. Есть такой писатель Умберто Эко, который писал о вреде обилия информации.
— И сам стал одним из лидеров массовой культуры.
— А потом стал учить своих студентов, как избегать излишней информации.
— Но это же приведет, в конце концов, наверное, и к кризису лидеров.
— Но лидеры уже пришли к кризису.
— И, соответственно, через 4 года, если возвращаться к началу сегодняшнего разговора, нам будет сложно выбирать между сегодняшним президентом и каким-то следующим, и тяжело отказываться от сегодняшнего президента.
— Мне кажется, что это вообще от лукавого. Все, что называется демократией, только 4 года. Это все хорошо в корпоративных ментальностях, в англо-американской ментальности, может, это хорошо. В России, я думаю, что если президент служит, как говорится, хорошо, так он должен служить, пока его народ не попросит уйти, а не потому, что ему надо уходить, его срок кончился. Другой вопрос, что народ никого не просит уйти. К сожалению, у нас так устроена власть, не в силу того, что власть такая, а народ такой. Какой народ, такая и власть. Народ такой, что он, в общем-то, выбирает, а потом ничего не спрашивает со своего правительства.
— Спасибо вам большое. Время программы подошло к концу. Я еще раз хочу напомнить, что на следующей неделе в рамках фестиваля «Боско ди Чельеджи» на сцене театра Моссовета можно будет увидеть премьеру спектакля «Чайка» в постановке Андрея Кончаловского. Андрей Сергеевич был сегодня гостем нашей программы.
— Спасибо вам, дорогие, с Богом. До свидания.