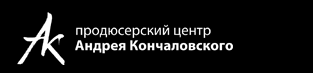«В России никогда не было национальной идеи»
В День российского кино редакция газеты «Новые Известия» пригласила к разговору Андрея Кончаловского. Речь пошла о состоянии российского кинематографа, и о том, что сегодня из себя представляет русский «национальный герой».
— Кинематографу уже более 100 лет. Кажется, уже все изобретено и все сказано. Андрей Сергеевич, на ваш взгляд, кино еще способно развиваться и открывать что-то новое?
— Что такое кино вообще? Если говорить о кино, как о роде искусства, то это попытка понять человека. Каждый день кто-то пытается что-то понять и что-то приносит – в кино, в литературе, в живописи, в музыке. Кино – просто одна из веток этого огромного дерева человеческой гносеологии, которое пытается рассказать о своих попытках в занимательной форме. Понимание это делится между двумя отношениями к человеку – «человек хороший» и «человек плохой». В восемнадцатом веке Руссо сказал: «человек хороший». У школы циников была другая концепция – в человеке масса всякого дерьма. А, к примеру, Селин и де Сад вообще считали, что человек – скотина. Достоевский, с одной стороны, говорил, что красота спасет мир, а с другой – «широк человек, надо бы сузить». Между этими двумя концепциями, на мой взгляд, и укладывается все понимание человечества. Кино ничего нового об этом не расскажет. В нем, как и в любом искусстве, важно видеть градации, понимать, что человек, может, и не очень хороший, но другого человека у нас нет. Попытки создать нового человека – это иллюзии. Есть новые средства – передвижения, коммуникации, а человек каким был, таким и остался – у него есть страх. И красота вряд ли спасет мир. Страх смерти спасет мир, страх самоуничтожения спасет человечество. Мы сейчас разговариваем не о кино, мы разговариваем о философии интерпретации. Конечно, все давно сказано. И в Библии, и до Библии, и у Платона, и у Конфуция. Но. И в этом магия искусства – казалось бы, все сказано, а почему-то волнует. Потому что не история скучна, а рассказчик скучен.
— Что вы думаете о современном киноязыке?
— Развитие языка идет не в самом желаемом для меня направлении. Я считаю, что изображение сбивает мысль. Литература или музыка сильна тем, что она возбуждает воображение. А кино – это пережеванное искусство. Там в образ можно не верить. Изображение – это качественный недостаток кино. Ведь недаром у мусульман изображение вообще запрещено. Оно всегда было очень дорогой вещью – икона, наскальная живопись – все это имело сакральный смысл. Сейчас изображение стало дешевым и доступным, возникла девальвация изображения. Каждый может стать режиссером – ну снял что-то там, склеил, музыку положил. Почему так много плохих картин сейчас? Потому что каждый может это сделать. Вот у Тарковского было мало изображения. Он заставлял рассматривать его, как картину Рафаэля. Ошибаясь при этом, ведь у Рафаэля ничего не движется, там надо созерцать, а в кино необходимо, чтобы все время двигалось. Именно в этом специфика этого вида искусства.
— Тем не менее кино способно претендовать на философский уровень осмысления тех вещей, о которых вы говорите?
— Кино – искусство демократическое, а следовательно, поверхностное. Элитарное кино может быть глубоким. Чем более художник хочет быть понятным, тем доступнее он должен быть. Конечно, существуют исключения, где при кажущейся общедоступности есть глубина, но это классика. Классика не может быть непопулярной. Ницше – это не классик, а Толстой – классик, потому что был всем понятен и говорил об очень важных вещах. Если говорить о кино, Тарковский – не классик, он был слишком элитарен. И в этом смысле есть философское различие между искусством масс и не массовым искусством. Не был массовым, к примеру, Шекспир. Но люди приходили и смотрели его пьесы. Зачем? Они пытались понять про жизнь больше, чем жизнь есть сама. В трагедии люди видели сущность жизни, почти религиозную – иррациональность и необходимость зла. А потом возникла буржуазия, которая стала читать, а когда люди читают, они много знают – в кавычках. И им уже не интересна иррациональность, они пытаются понять удобные вещи. Почему трагедия исчезла как искусство? Потому что люди захотели верить в то, что человек – хороший. Это удобно. И в этом смысле любое демократическое искусство, которое утверждает, что человек – прекрасное существо, жизнеутверждающее и оптимистическое. Какой-нибудь Селин или Генри Миллер никогда не будут достоянием широких масс. Широким массам хочется посмотреть кино и забыть – думать не хочется. Удовольствие стало эфемерным, потому что стало легкодоступным. А доступность, как правило, ведет к снижению интереса. Между прочим, браки часто именно от этого разрушаются.
— Кино постоянно задумывается о Герое. Есть мнение, что кинематограф опережает реальность – не берет героя из жизни, а, напротив, дает его ей. На ваш взгляд, что здесь первично – вымысел или реальность?
— Это зависит от нации и от культуры, в которой это кино делается. Каждая культура имеет свои взаимоотношения с мифами. В тех странах, где возникло национальное сознание, оно возникло в результате культурных процессов и религиозных революций. Там герой не играет такой уж большой роли. Герой играет роль в стране крестьянской. У крестьян нет национального сознания, у них есть национальная идея. Поэтому у крестьян всегда должен быть вождь. Россия – крестьянская страна. В России никогда не было национальной идеи, кроме идеи убить врага. Поэтому в России всегда был национальный герой – Сергий Радонежский, Минин и Пожарский. А поскольку культура основой своей имеет национального героя, то и кино делалось на национальном герое – Чапаев, Максим, Теркин, Штирлиц. Последний национальный герой – Леня Голубков.
— А как же Данила Багров из фильма «Брат»?
— Нет, я так не думаю. Он икона, но не национальный герой. Тетя Маша, Матрена из «Матрениного двора» Солженицына ведь никуда не делась, не умерла, она так и гонит свою корову через переход. И для нее этот брат Данила – он где-то на Марсе.
— Мне кажется любопытным, что если Штирлиц для россиян был образцом как мужской красоты, так и интеллекта, то Чапаев в кино был далек от просвещения. На вопрос: «Ты за какую партию?» он отвечал – «А Ленин за какую?», то есть цель борьбы у него была крайне размытой. А Леня Голубков был и вовсе обывателем, при этом обучал народ основам рыночной экономики. По-вашему, это и есть эволюция национального киногероя?
— Национальный герой и не должен быть просвещенным. Он может быть полным идиотом. Герой – это не тот, кто думает, а тот, кто действует, кто выражает потребность нации. А потребности у нации бывают разными. Илья Муромец – вот национальный герой. Он, как Геракл, спасал нас всех. Крестьянам нужна ведь не свобода. Крестьянскому сознанию нужна забота. Героем всегда был тот, кто брал на себя заботу о народе. Сталин был национальным героем, он как бы заботился, и с его именем на устах умирали. А потом национальным героем был Высоцкий – как протест против Сталина.
— По-вашему, теперь исчезла необходимость национального кино у нас в стране?
— Она не закончилась. Герой просто пропал. Его надо снова создавать. Я бы мог это сделать, но мне на это нужно много денег.
— Можно об этом поподробнее?
— Зачем же я буду вам про это рассказывать, у меня ведь эту идею сразу украдут.