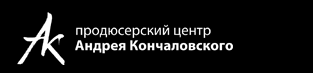Андрей Кончаловский: Если что - немедленно уеду из России и откажусь от гражданства!
– Начнем с неприятного вопроса.
– Интересно, попробуйте.
– Как вы ощущаете свои 75 лет? Тут про 45-то подумать страшно...
– Привыкаешь. Мысль о возрасте – на самом деле мысль о смерти, но с ней надо просто жить, как в провинциальных городках Италии, где на площади обязательно висит доска: умер такой-то, соболезнования родным. А кругом Италия, солнце, счастье, и как-то это сливается в одном чувстве жизни. В конце концов, помните, у Вуди Аллена: придет смерть – скажите, что меня нет дома.
– Почему, возраст – это не только смерть. Столько сделано, прожито, а ничего не изменилось...
– Если задавать себе вопрос, что изменилось, лучше не родиться вообще. Ничего не меняется никогда, и в этом, кстати, причина бессмертия искусства. Вы в самом деле очень хотите, чтобы все изменилось? А уверены вы, что после этого будет нужен, скажем, Шекспир?
– Вы своего отца в 75 помните?
– Мне до него далеко – он был хулиган.
– Выглядел-то посолиднее...
– Меньше двигался, особенно после перелома шейки бедра. Но сановитость была чисто внешняя, он делал, что хотел, и озоровал постоянно. Вообще понятие самодисциплины и тем более заботы о себе было мало ему знакомо: я уговорил его заняться голоданием.
Он проголодал три дня и сказал: «Ну ладно, я п-пошел пиво пить». Между прочим, когда я сам впервые увлекся голоданием, ложиться пришлось в единственную клинику – к профессору Егорову, который диетами лечил шизофрению. Отец пришел в отчаяние: «У тебя в личном деле будет записано, что ты шизофреник! Ты ничего не сможешь, никуда не выедешь!» – советская власть за такими вещами следила.
Хулиганство отца было очень обаятельно: как-то они с Егором гуляли по Парижу – это Егор рассказывал – и зашли в аптеку. Отец спрашивает: «Есть у вас сигареты без никотина?» «Да, пожалуйста». Он купил пачку, они вернулись в гостиницу, отец взял эту сигарету, лег на кровать в пальто, ботинках – и закурил. Егор говорит: «Дед, ты чего?» И он отвечает: «Да это я вы...бываюсь».
Или когда Путин приехал поздравлять его с девяностолетием. Никита пришел, я галстук надел, чего почти не бывает... Вручают отцу фотоальбом – сделали в подарок, сотни его фотографий разных лет. Сидит листает... «Да-а-а... Кобелина я был!» У Путина несколько вогнулось лицо.
– А он писал что-нибудь в поздние годы?
– Много. Кстати, лучшие детские вещи написаны не в молодости, не про нас, а после шестидесяти, про внуков. «У меня опять тридцать шесть и пять» – это я уже во ВГИКе был. «На прививку, первый класс» – тоже позднее. Но он и лирику писал в старости, вполне серьезную и очень, по-моему, хорошую. Про последний лист было стихотворение, как все с ветки улетели, а он один остался, – да, он так себя и чувствовал.
– Мы тут посмотрели шесть ваших картин к юбилею...
– Очень приятно.
– И кажется, что вы все время пытаетесь снять народное кино, найти для народа новый язык.
– Ребята, я никогда об этом не думал. Все бессознательно происходит. Ну да, наверное... я ведь считаю себя учеником Феллини (в смысле мировоззрения), Бергмана – у него каждый кадр очень красив, кадров мало, и все выверенные, и неважно даже, что там говорят, хотя говорят километрами, – и в особенности Куросавы, который вообще единственный эпик в мировом кинематографе, по-моему, – и я, наверное, бессознательно шел в ту же сторону. Потому что в этом есть какой-то Шекспир. Шекспир же очень деревенский, феодальный – и Эльсинор большая деревня, и замок Лира... Я люблю поэтому народные праздники снимать. Проводы в армию, скажем, с их трагическим весельем – как в финале «Аси Клячиной», где вообще-то совсем трагедией кончалось, но я потом понял, что эту трагедию надо давать сквозь смех. Или как уход героя в армию в «Романсе», на высшей точке любви. Кстати, я именно на «Романсе» понял, что интересна-то не трагедия, а – после. Жизнь после смерти. Вот и Ася смеется в конце, когда все кончено. И герой «Романса» не умирает, а живет дальше, хотя в сценарии Жени Григорьева он умирал, когда узнавал, что героиня Кореневой другого полюбила. Я говорю: Жень, пусть он не умирает, а то смерть от любви – ну это как-то уж никто не поверит. А он говорит: но ведь это так и есть! Ты посмотри вокруг (а мы в машине едем, Ленинский проспект, осень-зима, грязь) – ведь это, говорит он, все мертвые ходят!
Ну а мне неинтересно так. Мне интересно, чтобы герой потом полюбил уже обычную девушку, такую Иру Купченко с платиновыми волосами. Уже простой любовью, а не такой, от которой говорят стихами. Уже в черно-белом изображении.
– Режиссеры сейчас не любят о политике, но вы-то любите, так что – каков прогноз?
– Россия вернулась в свое естественное состояние.
– Ну уж!
– Да, именно. В Московскую Русь. Ничтожно тонкая светлая полоска при огромной массе темного населения, живущего на уровне и по понятиям шестнадцатого века. Русские просветители называли крепостных «белыми неграми». Это и было государство белых негров. Потом пришел Петр и попробовал всех сделать европейцами – его толчка хватило на двести лет. Вся русская классика, музыка, военное искусство – следствие реформ и взглядов Петра. Но для этого нужен был Петр – фактически предатель стрельцов и бояр. Пока сейчас не появится такой же предатель, Россия будет жить в привычном ей состоянии все той же Московской Руси. Причем просвещенные будут изо всех сил притворяться неграми – как в ХХ веке притворялись советскими Ахматова и Пастернак.
Это, кстати, иллюзия – что Советский Союз тоже был толчком к просвещению. Он это просвещение пятьдесят лет искоренял, только в семидесятые у него стали крошиться зубы и появилась кое-какая интеллигенция, подзаконная, конформная, притворяющаяся классово своей... А так-то Советский Союз был тот же «Третий Рим», о чем я и снял «Ближний круг». Кинематографически это вкусно – кремлевские коридоры, красные ковры, сапоги... Но по-человечески невыносимо, невозможно, там потому и вешается жена главного героя, что живая душа там изнасилована и деваться ей некуда.
– А появление этого нового Петра возможно?
– Возможно, но не обязательно: если нефть так и будет высоко стоять – зачем власти Петр? Просто в случае кризиса перестанет работать имитация. Сейчас же очевидно: имитируется все – и государство, и оппозиция, и все гражданские институты, и все государственные вертикали. Кризис, кстати, не обязательно будет нефтяным. Может внутри все надоесть. В этом смысле, не смейтесь, моя надежда на клерикализацию общества. Потому что утомить Россию рабством – это довольно мудрено, она этот опыт имеет и научилась сосуществовать даже с диктатурой. А вот клерикализация, фактически новый идеологический отдел ЦК – это не нравится, особенно молодым горожанам.
Священники вместо замполитов. Закон Божий вместо истории КПСС. Это не обращает людей к вере, а раздражает, это может обострить ситуацию, так что я сейчас – за стремительное нарастание этого абсурда. Но, повторяю, абсурдом это кажется вам и мне, потому что мы русские европейцы, так сказать, «птенцы гнезда Петрова», но для огромной массы людей, расселившихся по гигантской территории от Волги до Курил, все, что происходит в Москве, выглядит вполне нормально. Так что от наших ревностных политиков, которые в одночасье все понавесили себе кресты и активно шныряли через отдельный вип-проход к поясу Богородицы в ХХС, этого можно ждать! Запреты выставок. Скандалы вокруг кино. Православные завучи.
В который раз за 300 лет Московская Русь попытается взять реванш! Это будет еще не угроза стабильности, но спровоцирует рост неудовлетворенности. А тогда – новый Петр, он же Ли Куан Ю, если хотите, «предатель» правящего класса, может взяться откуда угодно.
– Но есть мнение, что на Западе сейчас кризис похлеще нашего, так что опираться этому Петру будет особо не на кого...
– Ну, кризис Запада совершенно не тот, что наш. Россия благодаря своему примерно четырехвековому джетлагу еще не скоро до него дойдет. Закат Европы, угаданный Шпенглером, – явление не одномоментное, это надолго. Он может ускоряться – такими явлениями, как нынешний раскол Евросоюза. А может замедляться – такими явлениями, как Брейвик.
– Брейвик его замедляет?
– Он показывает, до чего дошло. Он не спасение от кризиса, конечно, – он знак, насколько этот кризис глубок. Вызван он диктатурой политкорректности, диким консьюмеризмом, классом иждивенцев, мифом о глобальной деревне и мультикультурализме и в огромной степени постмодернизмом – а постмодернизм ведь и есть постоянный поиск нового во всем, в потреблении особенно... При постмодернизме происходит банализация истины. То есть напоминать о простых и верных вещах становится нельзя – это банальность, пошлость, это все уже было...
Говорить правду тоже нельзя, неполиткорректно – правда редко бывает удобной. Если Европа сумеет обновиться – она уцелеет, если нет – измельчает и вымрет, но это вопрос столетий. А кризис Московской Руси – вопрос десятилетия максимум.
– Есть шанс, что треснет Евросоюз? Представляете, только ему Нобеля – и бабах!
– Вряд ли, честно говоря. Греция кипит, но Греция ведь православная страна. В католической Италии, в Испании есть проблемы, но нет бардака. Православие не предполагает той личной самодисциплины, какая есть у итальянцев, про англичан уж не говорю.
– Ходят слухи, что в России скоро введут выездные визы. Вы верите?
– Очень маловероятно. Но если отсюда нельзя будет свободно выехать – я уеду немедленно.
– Если успеете.
– Успею. У меня двойное гражданство, второе – французское. В этом случае я просто откажусь от русского.
– Вы не хотите сегодня снять продолжение «Сибириады» – про эту новую роль нефти?
– Снять большую художественную картину я очень хочу! Но не продолжение «Сибириады» – хотя и это было бы забавно, – а эпос про распад Империи.
– Тоже на примере семьи?
– Не обязательно. Начал бы с сотрудников ЦК, которые выносят книги из своих кабинетов, уничтожают записные книжки, бросаются из окон... Среди них, между прочим, были неглупые люди и даже приличные – из тех, кто руководил производством, допустим. А дальше – как рушился Союз. Но чтобы снимать такое кино, нужна государственная воля – в одиночку этого не поднять.
– У вас нет ощущения, что ваш брат Никита несколько отошел от власти, или она его отодвинула как-то?
– Он сейчас снимает новый фильм и глубоко им занят. Мы с Никитой о политике не говорим вообще-то.
– А о чем же?
– Находим. Вообще, ребята, Никита очень хороший человек. Правда. Действительно хороший.
– Какой его фильм вы считаете лучшим?
– Гениальным – «Пять вечеров». Очень хорошим – «Обломова».
– Мы боялись, вы назовете «Пьесу».
– А вам не нравится «Пьеса»?
– Она перехвалена очень.
– Но там впервые в кино найдена правильная интонация для Чехова! Ведь Чехов – это довольно сардонический автор, не циничный, конечно, но издевательский в каждом слове. Я думаю, камертон для его правильной постановки – это одно такое редко публикуемое письмо... вот, нашел! «Я не видел ни одной такой квартиры (порядочной, конечно), где бы позволяли обстоятельства повалить одетую в корсет, юбки и в турнюр женщину на сундук, или на диван, или на пол и употребить ее так, чтобы не заметили домашние.
Все эти термины вроде встоячку, всидячку и проч. – вздор. Женщины... которые употребляются, или, выражаясь по-московски, тараканятся на каждом диване... это дохлые кошки, страдающие нимфоманией. Диван очень неудобная мебель. Его обвиняют в блуде чаще, чем он того заслуживает. Я раз в жизни только пользовался диваном и проклял его.
Распутных женщин я видывал и сам грешил многократно... Роман с дамой из порядочного круга – процедура длинная. Во-первых, нужна ночь... В номере ваша дама падает духом, жантильничает, дрожит и восклицает: «Ах, Боже мой, что я делаю?! Нет! Нет!» Добрый час идет на раздевание и на слова, дама ваша на обратном пути имеет такое выражение, как будто вы ее изнасиловали, и все время бормочет: «Нет, никогда себе этого не прощу!»
– Но вы-то сейчас «Трех сестер» поставили совершенно иначе. С диким надрывом. А он говорил: пишу водевиль.
– Неправда, там подзаголовок «Драма». А про водевиль он говорил, чтобы Художественный театр не вздумал играть это как мелодраму. Ему не нравилась их томность, романсовость, он говорил, что в «Чайке» Тригорину в исполнении Станиславского хочется впрыснуть спермину... Это же нормальный мужчина, говорил он, у него штаны клетчатые, ботинки рыжие... А для меня «Три сестры» стали как предощущение колоссальной катастрофы – это же пьеса про то, что их всех через 15 лет расстреляют. Просто никто еще этого не знал, а Чехов знал.
– Вот интересно: как вы впервые посмотрели «Зеркало» Тарковского?
– Он его придумал еще во время «Рублева». Я прихожу – а на моем журнальном столике стоит машинка и начатая (среди дня!) бутылка водки. Андрей напечатал две страницы сценария «Мать». Предполагалось снимать его мать скрытой камерой. Потом отдельно он придумал сценарий о военруке, из собственного военного детства, и потом это все сошлось в «Зеркале». Когда я монтировал «Дядю Ваню», он вдруг меня позвал посмотреть первый вариант фильма, три коробки, как сейчас помню. Я честно сказал, что ничего не понял. Ага, сказал он, теперь мне все ясно, теперь я перемонтирую так, что вообще никто ничего не поймет!
– Да ладно, понятно же все...
– Понятно, но Андрей специально так снимал, чтобы зрителю хотелось думать, он и дает время думать. Он скульптор, архитектор, строитель католических соборов – огромных, застывших: стой, смотри и думай. Мне ближе аналогия кино с музыкой, я хочу, чтобы шел сплошной поток, как у Феллини, чтобы некогда было думать, что это такое, а просто чувствовать «О, если б навеки так было!» и просить: дайте мне этого еще!
– Напоследок неприличный вопрос.
– Ну попробуйте.
– Долгая жизнь в одном браке – это хорошо? Или лучше, как у вас раньше было? Ведь вы с Юлей уже...
– ...шестнадцать лет.
– Быть не может. Ей что же, уже...
– ...тридцать девять. Но, ребята, это же не вопрос длительности брака. Это вопрос опыта. В молодости была ненасытная жажда – чувственная, интеллектуальная. Каждый раз казалось, что – навсегда. Каждый раз через два-три года оказывалось, что не навсегда. А я готовился каждый раз остановиться, заводил детей – но, видите, оказалось, что и это неплохо. Дети-то хорошие. Я никогда не терпел, не смирялся – когда понимал, что больше не хочу, собирал чемодан и уходил.
Но сейчас и дети, и жены вроде бы не держат на меня зла.