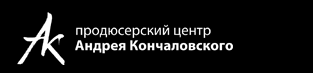«Прежде чем что-то менять, надо понять – как»
– Андрей Сергеевич, в преддверии премьеры «Трех сестер» расскажите, почему вы сейчас обратились именно к этой пьесе Чехова?
– Ну это вопрос, на который я никогда не буду отвечать! Просто потому, что у композитора нельзя спрашивать, почему вы дирижируете девятой симфонией, вы же дирижировали ей уже в прошлом году? Это – бессмысленно! Потому что тенденция ответов: я выбрал это потому, что там говорится... Это все такая лабуда! Чехова можно ставить хоть каждые десять лет, и все это будет по-разному! Лучше бы вы спросили меня, как я отношусь к театру? Это вопрос интересный. На это я могу ответить.
– С удовольствием спрошу. Так как вы относитесь к театру?
– Дело в том, что кино не может заменить театр. У театра есть своя сила и своя магия, которая невозможна в кино. Магия присутствия. И то, что сегодня – хорошо, завтра – гениально, послезавтра может быть ужасно. Это – магия уникальности, неповторимости события. Вот эта неповторимость события и дает возможность зрителю каждый раз увидеть пьесу с разных точек зрения. Не бывает, чтобы сегодня кино посмотрел, а завтра оно – другое. А в театре есть живое дыхание. Потом спектакль становится лучше или хуже, он может выходить на удивительные высоты, а потом спускаться и вообще умереть... Театр – это живая вещь, театр живет так же, как зритель. А кино – вещь законсервированная. Оно меняется только с изменением интеллектуального уровня или вкусов зрителя. Это – первое. А второе – в театре очень важна литература. Театром может наслаждаться слепой. А кино – может наслаждаться глухой. И поэтому в театре важен звук и интонация, с которой сказано слово, и важно – какое слово. Кино гораздо грубее в этом смысле. Кино «не видит» многих вещей, которые происходят в театре, в то же время в театре не видно тех вещей, которые можно сделать в кино. Вот и все. Это абсолютно разные виды искусства. Когда я работаю в кино – это один принцип, и он может быть ужасен в театре, а когда работаю в театре – это абсолютно другой принцип, и он может быть ужасен в кинематографе. И когда некоторые критики пишут, что кинорежиссер Кончаловский применил в театре киноприемы, это оттого, что они не знают, что такое кино и что такое театр!
– Вы считаете, что невозможно найти золотую середину и соединить зримое со звучащим?
– Найдите золотую середину между балетом и оперой, и вам памятник поставят!
– Но не хотите же вы сказать, что в кино текст вообще не имеет значения?
– Именно. В кино текст не имеет значения. Поэтому большое кино можно смотреть без перевода. Так же, как балет или оперу. А в театре это практически невозможно. В театре литература играет роль гораздо большую, чем в кино. Поэтому было немое кино. А немой театр – это уже не театр, а пантомима.
– А как вы относитесь к актуальному сейчас документальному театру?
– Театр может быть разный, как может быть разной литература. Все, что написано, – литература, но бывает макулатура, бывает журналистика, бывает политическая сатира, бывает нацарапанное на заборе слово. Поэтому нельзя говорить актуально-неактуально... Все существует. Как я отношусь к этому? Пускай каждый делает то, что он хочет, и отвечает за это.
– Вы часто бываете в театре, смотрите работы коллег?
– Очень редко. Бывают моменты, когда я хожу в театры, но мне так немного вещей нравятся...
– Вы прислушиваетесь к чьему-то мнению?
– Не к мнению, а к тому, что спектакль отстоялся и до сих пор пользуется успехом. Иду, скажем, не на премьеру, а через год... Я не очень люблю сенсации. Но, честно говоря, я, наверное, не очень любопытен. В определенном смысле художник – самодостаточный человек. Я думаю, что в этом смысле очень часто один художник не любит другого не потому, что он завидует или что-то такое, а потому, что у них может быть художественная несовместимость.
– А с кем у вас художественная совместимость?
– С Саймоном Макберни... Я думаю, что с Товстоноговым, со Стрелером... Знаете, я люблю красивые спектакли. Это может прозвучать пошло, но мне кажется, что очень важно, чтобы спектакль был красивым. Но каждый, естественно, понимает красоту по-своему. Мне кажется, что в театре есть возможность, как и в кино, художественных и литературных ассоциаций. И это очень важно. Интонация, речь, то, чем очень интенсивно занимался Васильев, когда красота речи явлена по-настоящему... Есть много вещей, которым, может быть, и учат (сценическому движению, например), но потом это все не используется режиссерами. Особенно если делаются спектакли, в которых политическая сущность важнее, чем философская или художественная.
– Вы считаете, что политическая сущность не должна превалировать?
– Как говорил Тригорин в «Чайке»: «Зачем толкаться?». Понимаете, всем есть место: и старым, и новым, и любым формам. Поэтому я не хочу говорить на тему, что я считаю и чего не считаю. Я же не критик. Я пытаюсь записать музыку, которую я слышу, которую я так понимаю. Музыка написана Чеховым, а я ее слышу вот так. Вот и все. Сколько есть великих интерпретаций девятой симфонии Бетховена! Нельзя сказать: вот эта интерпретация у Мути хуже, а у Фуртвенглера лучше. Я отношусь к людям, которые считают, что всем есть место и каждый должен делать так, как ему хочется. Важно, что зрители на него ходят, волнуются, плачут или смеются, радуются и благодарны.
– Вам сейчас, наверное, в связи с работой над спектаклем не до масштабных статей, таких, как опубликованный в марте текст «На сколько веков мы отстали?». Или вы планируете что-то написать в ближайшее время?
– У меня много размышлений. Все равно они сами лезут в голову, просто я не хочу выступать очень часто и по любому поводу. Я же не публицист. Но повод есть очень серьезный. Я размышляю на эту тему и очень надеюсь, что я напишу в ближайшее время на тему того, что знает русский человек о Боге.
– Пару лет назад ваша статья «Русская ментальность и мировой цивилизационный процесс» казалась интересным, но абстрактным, оторванным от жизни рассуждением, а после вашей мартовской статьи стало понятно, насколько это не абстрактно, а точно отражает происходящее...
– Просто меня интересуют культурология, философия и менталитет. Вообще, меня интересует попытаться избавиться от иллюзий, которые мы все в определенном возрасте имеем, – одни, другие, третьи... Вот и все. Попытка понять происходящее с человеком, с нацией и с человечеством. Это как бы три разных измерения. И с этой точки зрения я считаю, что колоссальные заблуждения, в которые впало человечество, видимо, в силу превалирования европейской философии в мире, сейчас очень мешают понять реальность. Понять реальность мешает тот факт, что мы говорим «свобода», а подразумеваем «демократию». Это глубочайшая ошибка. Это разные вещи. Демократия – это не свобода, это очень серьезное внутреннее самоограничение каждой личности, на что не так много культур способны. Иллюзия, что свобода – естественное человеческое состояние. Мусульманские революции доказали, что свободу они получили, но тирания будет еще больше. Я хочу сказать, что одна из самых больших иллюзий, мешающих нам увидеть сегодняшнюю реальность в мире и в России, – именно в том, что свобода абсолютно не гарантирует демократию, потому что мы воспринимаем свободу как отсутствие ограничений. Поэтому лично я думаю, что, если сказать грубо, отсутствие ограничений в России ведет к катастрофе, а в результате – к диктатуре.
– И свернуть нам с этого пути не удастся?
– Зачем сворачивать? Речь идет просто о том, что для того чтобы человек стал свободным, он должен прежде всего уметь себя ограничивать. Предположим, существующий строй может быть сломан, как был сломан строй царский, но в результате слома существующего строя может прийти такое чудище, при котором то, что существует сейчас, покажется раем. Мы же не знаем. У нас есть иллюзия, что если мы избавимся от этого, то возникнет нечто чудесное, но это колоссальная иллюзия современного человека.
– То есть нам больше нужна демократия, чем свобода?
– Нам нужно то, что у нас есть. Все действительное – разумно. Значит, нет пока в российском обществе тех сил, которые в состоянии создать что-то другое. Если бы эти силы были, то они бы создали.
– Возможно, вы правы...
– Вот большевики пришли и решили освободить людей, в результате получилось именно то, о чем говорил Плеханов, – культ личности и кровавый террор. Даже пример с Pussy Riot очень яркий: как неожиданно поляризировались две концепции взгляда на все русское устройство – вплоть до ненависти. С одной стороны – люди, которые кричат изо всех сил, что Бог есть, а с другой стороны – люди, которые подразумевают, что Бога нет. И они начинают друг друга ненавидеть. Ну что это?!
– Как вам кажется, возможно ли теперь каким-то образом унять эти противоречия?
– Во-первых, я не политик, во-вторых, я не советчик. Я не знаю, я просто могу констатировать определенные вещи. Прежде чем что-то менять, надо понять – как, узнать, как лечить больного человека. Диагноз-то поставить можно, но это еще не значит – вылечить.
– А вы своим творчеством можете как-то влиять на происходящее, на людей?
– Искусство ничего не может изменить. Искусство – это игра, оно создано, чтобы радовать людей... Другой вопрос, что расцвет искусства происходит, как правило, при тирании, в тяжелые времена. У нас не было свободы в Советском Союзе, а были замечательные произведения, при царском режиме была чудовищная цензура, а были замечательные произведения, а вот когда появилась свобода двадцать лет назад, больших произведений как-то и нету...
– Печальный парадокс...
– Просто искусство должно иметь конфликт, чтобы выражать чувства. И говорить о том, что, несмотря на весь ужас, мир прекрасен.