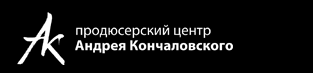Передача "Культурный шок"
Добрый день, начинаем нашу программу. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина, а напротив меня режиссер Андрей Кончаловский. Здравствуйте, Андрей Сергеевич!
Здравствуйте!
И наш сегодняшний культурный шок в том, что мы с Кончаловским будем говорить об искусстве. Пожалуй, на нашей памяти это впервые.
Это замечательно.
Андрей Сергеевич, начнем с грядущих событий театральных. Вы привозите итальянский спектакль в Москву «Укрощение строптивой». Сразу напомню нашим слушателям, что если сможете попасть, то попадите – всего лишь 2 дня, 15 и 16 апреля в театре Моссовета «Укрощение строптивой». Что это такое, расскажите, пожалуйста, про это.
Вообще, рассказать невозможно. Можно сказать только, что это настоящая комедия дель арте. Я думал, что я не сумею сделать – кажется, получилось. Я, вообще, никогда не ставил комедий и, когда мне предложили поставить для фестиваля Неаполитанского классику.
Хорошо. Что? Они говорят: «Шекспира». – «А, что?» – «А вот, если «Укрощение строптивой»?» Я сразу сказал – да». Потом стал читать. Я читал ее, может быть, 20 лет назад. И, в принципе, я прочитал в первый раз, потому что, оказывается – если ты обратишь внимание – чистая комедия дель арте.
Это единственная комедия Шекспира, написанная в жанре комедии дель арте. Все характеры, все, начиная с Петруччо, Капитана, Арлекин, Бригелла. Там есть все. И эти слуги – один идиот, другой хитрый и так далее.
То есть, в принципе, когда начиналось, это был, в общем, расцвет Венеции и Неаполя – двух грандиозных школ комедии дель арте. И тогда, конечно, возникла простая мысль. Шекспир написал: Действие происходит - где? - в Падуе. Комедия дель арте, только не на том языке. Он должен быть по-итальянски, поэтому на итальянском языке в этом смысле итальянцам было очень просто понять каждую маску. И с этой точки зрения стал изучать. Я, в общем, серьезно не занимался комедией дель арте. Позанимался немножко, какие-то вещи для меня открылись очень интересные.
И потом я стал искать маски. Если ты посмотришь лучшие спектакли... во-первых, был фильм хороший довольно с Элизабет Тейлор и Ричард Бёртен, Дзеффирелли.
Потом была чудная Касаткина с Поповым, потом был гениальный Джон Клиз, который играл в Лондоне из «Монти Пайтона». Они не играют Капитанов. Ну, может быть, Джон Клиз играл Капитана. Мачо, хам, такой со шпорами, звенит весь, хочет богатую женщину, он ее, в конце концов, переламывает и так далее.
И когда я стал думать, как это сделать, чтобы это был несколько другой жанр, возникла какая-то странная идея. Я подумал, ты знаешь, 5 лет спустя «Дяди Вани», когда я снял фильм, я подумал, что, вообще, все неправильно поставил. Дядю Ваню должен был играть Чарли Чаплин. Кто идеальный дядя Ваня? Чарли Чаплин.
Так вы потом попытались воплотить это в спектакле, где Деревянко играл.
Конечно. Идеальный дядя Ваня – Деревянко. Почему? Потому что дядя Ваня, который у тебя, может быть, будет Шопенгауэр, а ему говорят: дядя Ваня – скучно.
Вот этот разрыв был очень важен. Поэтому, когда я стал думать о Петруччо, должен ли он быть таким – звенеть шпорами, я вдруг подумал, кто идеальный Петруччо? Альберто Сорди – великий... может быть, кто-то помнит великого комедийного артиста. Без талии, такой «попастый»...
Невероятно обаятельный.
Обаятельный хитрый проныра с наивным лицом и очень длинными такими, извилистыми ходами. И к своему удивлению я нашел артиста вот такого...
Итальянца
Мы все итальянцы.
А там какой-то театр конкретный или там была сборная труппа?
Это два театра, которые собрали деньги: театра Меркаданте в Неаполе и театр в Генуе. В Генуе большой очень хороший театр Stabile. Я нашел артиста вот такого толстого.Я ему сказал: «Ты должен быть, как летающий слон». Он легкий и большой и ему было очень трудно.
Но он-то знает, кто такой Альберто Сорди?
Ну, конечно знал. Но он не представлял, что я ему скажу: «Смотри вот это!» Мы стали Альберто Сорди, я ему сказал: «Вот это надо брать, это...». И когда возник вот такой Петруччо, который хочет жениться на богатой женщине, у которого умер отец, который хитрый, который хочет подписать контракты – у него тут... авторучка. То есть, возник такой очень интересный симбиоз современной Италии и комедии дель арте.
Но это все равно сегодняшняя история? Вы, как это делали? Или это классические костюмы, музыка, тарантелла?
Физически. Все, что волнует – сегодняшняя история. Все, что не волнует - не сегодняшняя. Что касается, куда мы это поместили – мы поместили это в 20-е годы Италии. То есть, танго...
Да?
Ну, да. В общем, арт-деко. Дело в том, что великие достижения 20-го эстетические в Италии совпали с фашизмом. Тут ничего нельзя поделать. Одновременно был фашизм, но одновременно были:д'Аннунцио, были замечательные архитекторы. И вообще, архитектура Муссолини, между прочим, выдающаяся по красоте.
Один взять, чего – стадион в Риме. Красота! Пропорции идеальные. И, в общем, в этой эстетике мы и делали спектакль. Люди во фраках, высокие воротнички, но одновременно с этим мы ничего не меняли. Только эти характеры возникли, они немного возникли по-другому.
Но, я тебе скажу, с итальянцами делать комедию дель арте – наслаждение просто. Во-первых, у меня был огромный кастинг. Я стал икать эти маски. И эти маски, которые возникли, она дали определенные культурные ассоциации, что называется. Но одновременно с этим это чистая комедия дель арте. Мы даже будем делать мастер-класс для студентов художественных вузов. Два замечательных парня будут давать мастер-класс по комедии дель арте и по жесту, и по физике.
Ну, а как артисты? Вы, вообще, работали до этого с артистами иностранными в драматическом театре.
Ну, с ума сошла! Чайку ставил в 86-м году. Жюльет Бинош у меня в первый раз играла на сцене.
А! да-да. Ну, и как, вообще, это происходит? То же самое – слова выучил и вперед?
Единственная разница, что у нас никто не запивает. Никто не пьет и появляется вовремя, в отличие от того, что «можно я сейчас уйду?» - вот этого не может быть.
Я, кстати, прочитала в одной из новостей, там, когда говорили про этот показ ваших спектаклей, цитировали итальянские рецензии из газет. И в качестве какого-то достоинства этого спектакля рецензенты называют то, что «не искажает классику». Вот, что такое «искажать классику»? Поскольку у нас сегодня очень актуальна эта тема: Искажать классику, можно ли искажать классику? Что такое искажение классики, в чем оно выражается, если оно бывает?
Искажение классики – это самовыражение режиссера за счет текста.
Послушайте, любой спектакль – самовыражение режиссера.
Но не за счет... Это неправда. Есть два типа режиссуры, я убежден в этом. Есть режиссура, которая относится к тексту, как к чему-то основополагающему и я даже сказал бы священному, и относится к тексту, как тому, что надо расшифровать и понять ту тайну – тайну только у великих текстов, естественно – в очередной раз, которая заложена.
Потому что все великие тексты имеют одну общую вещь. Эсхил, Софокл, Шекспир, Чехов, Стриндберг, Ионеско имеют одну общую вещь. Если эту общую вещь вынуть, это не будет эта вещь. Это попытка понять смысл человеческой жизни.
Вот Фридрих Горенштейн – мой друг замечательно сказал, что самая великая тайна Вселенной – это жизнь. Самая великая тайна жизни – человек, самая великая тайна человека – это творчество. То есть, эту тайну человека пытаются понять все великие. И никогда на нее не отвечают, будь то Чехов или Шекспир. И вот попытаться так же поставить вопрос – есть, на мой взгляд, уважение к автору.
Если мы начинаем брать этот текст, его переворачивать, находить свои смыслы, не думая о том... Это только взять Бетховена и сыграть на унитазе с пишущей машинкой...
Это интересно.
Да, интересно, но это самовыражение. Но Бетховену вряд ли бы это понравилось. Другой вопрос, что естественно авторы, которых вряд ли бы Шекспир понял. Кто его знает? Но, мне кажется, что самовыражение режиссера заключается в том, что он пытается сделать спектакль, когда втор говорит: «Только так. Да, только так. Я не знал» И, когда говорит: «Только так».
И великие спектакли дают абсолютно новое прочтение, но все думают: «Только так». А потом приходит другой великий, и опять: «Вот теперь понятно – только так». А между этими двумя великими может быть 100 хороших, или, может быть, 50 и 300 каких-то – смотришь: «Ну, это...» Поэтому вот это «только так» - самое главное.
Но это очень трудно. Это такие нюансы, которые, мне кажется, не всякому доступны.
Конечно, не всякому.
Человек приходит в театр, он либо принимает эту трактовку, либо не принимает.
Я тебе скажу. Принимать трактовку – это одна вещь: плачешь, смеешься или пугаешься. Если ты не плачешь, не смеешься, не пугаешься, а просто принимаешь трактовку - это не искусство. Это ты сидишь там, думаешь...
Почему? Я понимаю, о чем это. Разве этого недостаточно?
Ну, конечно, нет. Мы приходим в театр, чтобы быть детьми. Ты больше всего... вот ты уже волчица, понимаешь, все уже видела на свете. Чему ты благодарна?
Ну, когда я плачу...
Когда ты плачешь и, когда ты ребенком говоришь: «Ой, как жалко, что кончилось!»
Конечно.
Ты не говоришь: «Здорово, гениально, потрясающе – вы посмотрите!» Ты не это говоришь. Лучше помолчать, ты благодарна за свои чувства. А чувства – потому что ты ребенок. А это главное. На мой взгляд, самый благодарный зритель – когда ты чувствуешь себя ребенком. А там возникают потом какие-то мысли, ты потрясена. Но, эти мысли возникают потом. Неразб говорил, что искусство сначала действует на нижние части тела, потом к сердцу поднимается, потом в голову приходит. Только потом.
Вот как интересно... Я все-таки возвращаю вас в сегодняшний день, в Россию. Я думаю, что вы обратили на это внимание, что у нас последнее время произведения искусства оцениваются только с точки зрения «было или не было», «правда или не правда», «мог или не мог», «имеет право или не имеет право». То есть, эмоции, вообще, в этих разборах не участвуют. Сейчас я вам приведу пример, пожалуйста. Ваша «Курочка ряба». Вы помните, вокруг чего тогда бродили тогда все споры, дискуссии?
Да.
Очерняет он деревню или не очерняет, имеет ли право режиссер так говорить о российском народе или не имеет – вот, собственно говоря, все.
Да. Тут, собственно, ничего нельзя поделать.
А про золотое яичко никто даже не вспоминает!
С этим надо смириться. Мы все делаем то, что мы можем сделать, жонглируем перед собором. Знаешь эту замечательную историю, когда жонглер в пасху жонглировал перед собором, кто-то сказал: «Что ты делаешь? Святой день!» А он сказал: «Это единственное, что я могу хорошо сделать для бога».
Все, что мы можем сделать, это сделать то, что мы хотим выразить. Поэтому «может, не может» - я тебе расскажу один пример. Сексуальные сцены, эротика на экране. Очень трудно сделать так, чтобы ты получила чувства. То есть, можно показать все, что угодно. Можно показать работу всей секреции, все железы показать, но от этого эротику ты не получишь.
Ты эротику получишь тогда, когда твое воображение включилось. Поэтому, скажем, эротика в литературе гораздо более эффективна, чем в кино, потому что в литературе ты все довоображаешь, как ты хочешь верить. А дальше возникает больше. Еще больше эротики у тебя будет, когда ты будешь подслушивать, а не глядеть, потому что твое воображение включается.
В кино у меня была такая проблема. Я должен был показать эротическую сцену в «Сибириаде». Никита Михалков и Гурченко. В Советском Союзе эротическая сцена! Она ноги раздвинула... - вообще! Почему сработало. Никто не сказал ни слова – комедия. Юмор как анестезия. Когда это сделано с юмором – эротика проходит.
Почему? Потому что ты чувствуешь, юмор – это человеческое чувство. И поэтому, когда мы говорим, было или не было, может так быть или не может быть – это возникает тогда, когда человек – не ребенок, когда он думает и говорит: «Нет, это невозможно». Если он вовлечен эмоционально, то он не думает об этом. Об этом думает только цензор. Цензор должен думать, он следит за словами, он для этого сидит. Но, в принципе, все можно, когда есть волнение, когда есть чувство. А струны три, как говорил Александр Сергеевич Пушкин: страх, то есть ужас; сострадание и смех – три маски трагедии.
Сегодня у нас в студии Андрей Сергеевич Кончаловский. Мы сегодня говорим об искусстве...
Какая ты ироничная! «Об искусстве»...
Да. Поскольку мы говорим про итальянский театр, не могу не спросить про Лондон. Тоже для меня была невероятно интересная новость, что вы там будете играть ваши чеховские спектакли.
А ты в Лондон приедешь?
Ну, если пригласите, приеду.
Пригласим.
Хорошо, договорились.
Важно, чтобы ты приехала и смотрела в один день.
Давайте мы расшифруем это. У нас идет «Дядя Ваня» и «Три сестры» - те спектакли, которые вы здесь ставили в театре Моссовета, вы их помещаете, как я понимаю, в одну декорацию и они у вас идут два спектакля подряд марафоном.
Только три раза в Лондоне. Так. Это как моя мечта. Три раза там случится то, что я мечтал: утро – «Дядя Ваня», вечером – «Три сестры». Перерыв на три часа – поесть и артистам отдохнуть. Я не представляю себе, как это выдержали. У нас артисты к таким марафонам не привыкли.
Это же артисты Питера Брука, которые могли 12 часов играть «Махабхарату», но, тем не менее, это для меня очень интересно, потому что я не знаю, будет ли у меня еще такой шанс так увидеть, но там в Лондоне мы будем показывать не каждый день, но три раза из 12 дней, где мы играем... Ну, вообще, театр Моссовета в этом смысле дает все возможности. Я ему очень благодарен.
А, в каком театре – я прочитала – вы будете играть, какой-то старинный театр... Такие восторги были...
Wyndham – это театр 18-го века. Гилгуд играет там. Таких 5 театров, то есть, вообще, это самые замечательные, престижные театры - неудобные, высокие, душные, вентиляции нет, сцена маленькая.
Все, как было в 18-м веке.
Да, поэтому нам будет очень сложно, потому что когда мы декорацию с роскошной сцены театра Моссовета запихнем туда...
Там же два разных спектакля – почему в одну декорацию вы это помещаете?
Это один автор и один режиссер.
Так. И какую декорацию вы выбрали?
У меня одна декорация в обоих спектаклях.
Разве?
Именно. У меня одна декорация в том-то и дело.
Я никогда об этом не задумывалась.
У меня одна декорация и одни и те же артисты. И хотелось бы еще в этой декорации поставить «Вишневый сад» и все!
Слушайте, я сейчас вспоминаю – точно!
Ну, это симфония из трех частей.
А я была почему-то уверена, что там разные декорации. Вот это да!
Потому что это другая музыка. В том-то все и дело – это одна декорация, то есть, одно пространство. Поэтому нельзя назвать декорация – одно пространство. Поэтому, собственно, и весь интерес, чтобы в одном пространстве играть нескольких разных «симфоний» Чехова с одним и тем же оркестром.
А, в чем смысл?
Не знаю.
Почему для вас это важно, что оба спектакля играются в один день? В чем смысл?
Я не знаю. Я не могу сказать так рационально. Понимаешь, это, как есть такие огромные произведения очень длинные. Ну, там - не знаю – Вагнер, «Лоэнгрин» - два с половиной – три часа. Или «Реквием» Верди – три часа тридцать минут иногда идет. Гигантские произведения, огромные.
Месса h-moll Баха. В чем смысл? Ну, смысл в том, чтобы прожить этот огромный кусок. И там есть еще, конечно, диалектика. Диалектика чеховского... Чехов был удивительный в этом смысле человек – они никогда не говорил о политике. Он никогда не говорил даже слово «социалисты». Он никогда не говорил этих слов.
Я уже не говорю о том, что он не выносил власть. И, когда его Великая княгиня пригласила однажды в гости, потому что они прочитали где-то в Зимнем дворце несколько рассказов Чехова, он позеленел и сказал: «Передайте Великой княгине, что она меня никогда не увидит». Трудно сказать.
Я тебе скажу одну вещь, которую ты не знаешь, наверное. Но я был потрясен. Я подумал о том, как Чехов понимал, что может произойти в России. В свое время Бунин написал, что Чехов ему сказал в Ялте: «Вот умрет Толстой и все в России пойдет к чертовой матери». И Бунин спросил: «Литература?» И он сказал: «И литература тоже». То есть, он имел в виду гораздо более глубокие процессы.
Я подумал, что бы он сказал, если бы знал...? Ты знаешь, у него была первая невеста Дуня Эфрос, еврейка из богатой семьи. Он был влюблен, и, вообще, хотел денег немножко, чтобы сделать журнал. Она была умная, красивая. Потом он, кстати, написал Иванова – Сарра. Дуня Эфрос, красивая, интеллигентная, чудная женщина – вышла замуж потом за адвоката. Если бы он знал, что в 43-м году 93-летнюю старуху в газовой камере убили в Треблинке.
Ее, да?
Да. Вообще! Невеста Чехова была убита в Треблинке. Что бы он написал в своих пьесах? Он бы не писал проклятия – он писал бы те же пьесы. Там это чувствуется.
У вас поэтому такой финал, по-моему, в «Трех сестрах», когда вы в 20-й век отправляете. Я просто скажу слушателям, кто не видел - там кончается, по сути, этот спектакль, когда герои просто опрокидываются в этот страшный 20-й век, в эти войны революции, кошмар...
«Если б знать...» - великая фраза, понимаешь?
А вы играете сначала «Дядю Ваню», а потом «Три сестры»?
Конечно. Ну, это диалектика. Вообще-то, если посмотреть, то его отношение к жизни, к России, к развитию, вообще, цивилизации от «Дяди Вани» через «Три сестры» идет к «Вишневому саду», к этому заколоченному, к этим молчаниям.... Ты знаешь, есть чудная книга сейчас новая о Чехове. Написал ее литературовед, грандиозная женщина Елена Толстая. Она живет в Израиле. Она называется «Эстетика раздражения».
Она в первый раз издала ее в 90-е и сейчас она ее переиздала. Я очень советую прочитать. Она там сказала очень глубокую фразу, что время благообразного и мягкого человека в пенсне, отзывчивого и соболезнующего прошло. Чехов совсем другой, наступил как бы «пострейфилдовский» период.
То есть, Дональд Рейфилд, который написал знаменитую биографию Чехова. И она сказала: «Время медленного чтения Чехова только приходит». Вот только часто должны начать его понимать, потому что Чехова все время хватали разные лагеря. В 90-е годы то он православный, то его прислонили к церкви, то он русский, то он антисемит...
Символ русской интеллигенции.
Да, то символ русской интеллигенции, то либерал, то консерватор... То есть, его прислонять пытаются все. Чудаков - такой замечательный славист и лингвист написал работу о Чехове, которая называется «Человек поля». Потому что у Чехова есть знаменитая фраза: «Между утверждением «Бог есть» до утверждения «Бога нет» лежит огромное поле, которое за всю жизнь с трудом проходит истинный мудрец». И потом Чехов добавляет: «Русский человек – середина его не интересует, его интересуют только крайность. Поэтому он о боге знает «почти ничего» или очень мало».
И расшифровывая эту фразу Чудаков говорит, что Чехов был человеком поля. Иногда он шел в сторону «бог есть», а иногда шел в сторону «бога нет». И поэтому Чехов говорил, что религия – в писках бога. И в этом смысле, мне кажется, Чехов был по-настоящему религиозным, потому что он сомневался.
А вот интересно, мы говорили про «Дядю Ваню», про этот образ, который у вас в голове возник, что это Чарли Чаплин...
Не сразу, а поставлен фильм со Смоктуновским. Я уже сделал картину, посмотрел, и через два года сказал: Я все неправильно сделал.
Но, все равно я человек в этом смысле консервативный, мне больше все-таки Смоктуновский ближе.
Ну, слава богу.
В спектакле «Три сестры» там тоже неожиданно – я никогда не видела такой трактовки образа Вершинина, потому что обычно всегда это красавец, немножко уставший от жизни, такой харизматичный офицер, привлекательный, безусловно, влюбляющий в себя не только Машу, но и зрительниц в зале.
Здесь у вас играет – опять же объясняю аудитории, которая, может быть, не видела спектакль – играет, конечно же, Александр Домогаров и, кто бы сомневался, что Саша прекрасен, обаятелен – настоящий мужчина, но вы сделали все для того, чтобы образ Вершинина было совершенно другим.
Ну, конечно.
Он какой-то... я даже не знаю, как его описать. Короче говоря, первое впечатление шоковое и абсолютно этот человек вызывает антипатию сразу же.
Это не антипатию, смеется над ним, иронию.
Возникает вопрос: как можно было влюбиться в это нелепое существо с писклявым голосом?
Во-первых, любовь зла... Во-вторых, только вдумайся – я говорю о медленном чтении – представь себе, что о нем говорит Тузенбах...
Что он ноет все время.
Нет, говорит все время, что у него жена кончает самоубийством. В каждом акте он говорит о том, что «у меня опять жена кончила самоубийством». Если говорить серьезно, у нормального человека, такого, как ты говоришь, жена все время кончает... Это что-то есть в этом особенное, что-то такое, на что Чехов намекает. Так же, как Вершинин говорит: «Чаю хочется». – «Сейчас принесут». Проходит 10 минут акта...
- «Я бы выпил чаю». В третий раз - Маша говорит: «Что вы молчите?» - «Чаю хочется». Опять ничего. В четвертый раз: «Ну, если не дают чаю, давайте хоть пофилософствуем». Если это читать медленно, мы начинаем понимать, что там есть другая интонация.
Очень часто читая текст, артист воспринимает его, как авторский текст. В то время, как это человек вкладывает в определенный характер. Это не Чехов говорит, это говорит человек, у которого жена кончает жизнь самоубийством бесконечно – раз. Во-вторых, с женщиной сошелся с замужней и потом уезжает. Трус. Она же отважное существо...
То есть, там много чего. Чем мне дорого Вершинин – своими слабостями, а нем, что он прекрасный. Он, конечно, несет ахинею, понимаете? И самое сложное в Чехове, на мой взгляд – понять, где Чехов серьезен, а где он отодвигается и говорит: «Это не я говорю – это он говорит. Это вы сказали». В этом есть интерпретация автора, режиссерская интерпретация автора. То есть, искусство в интерпретации, на мой взгляд, где мы складываем авторский текст и мысли с героем каким-то, где он отдаляется и говорит: «Это не я. Он просто несет ахинею. Вы послушайте – он просто дурак».
И вот это самое сложное и самое интересное. Здесь возникает мультижанровость. Потому что над одним человеком можно смеяться, во второй картине можно над ним издеваться, а в третьей картине можно убить. Так же, как в жизни. Мы с тобой, наверняка, много раз уже влюблялись, а потом говорила: «Негодяй!» или: «Она дура».
Потом оказывается, что нет, она, оказывается совсем не дура, просто были такие обстоятельства. Наша парадигма меняется, и меняется наше отношение к людям. И так же у Чехова, мне кажется. Надо играть, чтобы зритель не знал сначала – а зритель Чехова никогда не знает сначала, кто хороший, кто плохой, где плохое, а где хорошее – все перемешано. Собственно, это и есть Антон Павлович – где все в жизни перемешано.
А «Вишневый сад» будет на сцене театра Моссовета?
Не знаю сейчас.
Там же есть спектакль, по-моему, если он идет еще в театре Моссовета.
Не знаю. Жизнь моя сейчас немножко изменилась, и я, если делал, то только бы с Юлей, но сейчас там сложно это определить.
Тогда я про кино спрошу.
Давай.
Потому что я обязана про это спросить. Я знаю, что почти закончили свой фильм, который называется: «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Я о нем уже прочитала статью Дмитрия Быкова, которому повезло, вы ему такое доверие оказали – показали черновую работу. И буквально сейчас перед программой вы сказали, что «это мой главный фильм». Давайте попробуем про него рассказать, что это за работа такая?
Я могу только сказать следующее. Я показал Диме Быкову, я очень уважаю его мнение. Мне было просто интересно, услышит ли он, узрит ли он то, что мне казалось важным в этой картине, о чем рассказать. Да, сложно. Дело в том, что...
Ну, это игровая картина?
Это так нельзя говорить...
Я задаю вам такие вопросы дурацкие. Я сейчас вам расскажу. Я спрашивала Кончаловского перед программой: «А сценарий-то вы писали?» Он мне говорит: «Это кино». Вот как интерпретировать этот ответ? Потом я вытягиваю, понимаю, что как бы сценарий, сюжет создавался в процессе работы, и самое-то главное, что почтальон Алексей Тряпицын – это реальный почтальон.
Абсолютно. Он возит почту. Когда я решил снять фильм... во-первых, надо снять фильм без денег сегодня. Чем меньше денег, тем больше свободы. Вообще, сейчас можно снять фильм вообще без денег - взял камеру....Нам какие-то нужны были все-таки деньги, мы получили эти деньги от Министерства культуры и от Почты России позже. Но это минимум, на это картину, как правило, нельзя снять.
Мы искали, мы решили найти человека, который связан с другими людьми. Это мог быть уездный врач, предположим; почтальон или милиционер – ну, какая-то такая профессия. И мы остановились на почтальоне, потому что есть места, где милиция тоже не появляется, но почтальон должен появиться, потому что он везет пенсию. Но, оказывается, что он везет не только пенсию.
Он везет хлеб, он везет налоги, и он везет газету, где телевизионные программы. То есть, почтальон – единственный человек, который представитель государства. И этот человек, простой человек может покрывать 20-30 километров, приехать к бабке какой-то. Пока бабка там живет....
В деревне один дом, всегда закрытый. Бабка живет. Индексы сохраняются, ей нужно везти пенсию. Кредитной карты у нее нету. И он везет туда, этой бабке, вы понимаете? Мы стали искать почтальонов. Мои девочки у меня работали – у меня чудная группа – 6 месяцев, объездили массу деревень и массу районов северной России: Вологда, Рязань, то есть, 50-60 человек мы прошли с интервью, пока не остановились на Алеше...
А, как вы это проверяете? Интервью, в чем заключается?
Ну, они сидели с ним по неделе, с ним, с разными – разговаривали...
С камерой?
С камерой. Он разговаривал, рассказывал. Они там с ним ходили, то есть, надо было понять его характер. И, в конце концов, Алексей Тряпицын показался нам наиболее, как сказать... в нем сочетания замечательные – вот все вместе.
Все вместе: и оптимизм, и простота, наивность, ум, мудрость. Ну, как сказать? Ну, это то, что, можно сказать, русский характер во всех своих недостатках и достоинствах и одновременно с этим, такой современный тип Василия Теркина. То есть, «вообще, все в порядке – пробьемся!» Вот это вот «пробьемся»... Причем, люди живут в апокалиптический период там, вообще...
А, сколько лет ему?
40-42. Он на озере потрясающей красоты. Кенозерье, вода зеркальная, вокруг леса. Ангелы летают. И он на этой лодке туда-сюда шныряет по деревням маленьким вокруг и на лодке развозит почту. Когда мы нашли человека, потом мы поехали туда, стали знакомится с теми, кому он возит почту. Потом из тех, кого мы нашли, кому он возит почту, его реципиентов, мы нашли 5-6 характеров, которые не боятся камеры, у которых есть свои судьбы, у которых есть свои отношения. Если вдуматься, так очень сложно. Это романы там, это, вообще-то, Маркес. Но, когда камера приезжают, они улыбаются и говорят такие нужные слова. Поэтому нужно было, что бы они привыкли и забыли...
Так. Дальше. Вот вы нашли, а дальше? Из чего складывается сюжет?
А дальше мы начали складывать сюжет, исходя из того, что у нас были идеи. И вот идеи мы стали внедрять. Я так скажу: я думаю, что главная проблема у режиссера заключается в том, что ему дают плохой, средний или очень хороший сценарий. И он его, так или иначе, должен снимать. И он уже вырваться из сценария не может.
Когда ты берешь не режиссера, а художника кино: Бергман Бунюэль, Феллини, Куросава – если ты смотришь их сценарии – их нету. И непонятно. У Бергмана, вообще, непонятно, о чем фильм, у Феллини вообще нет историй. Эти режиссеры создают сразу мир. Они не пишут сценарий, где А, В, С и все складывается хорошо и в результате кончается все счастливо или несчастливо. Это как раз проблема кинематографа, который необходим. Но, вот такое кино ближе всего, наверное, у нас в России Саша Сокуров, который не сценарии пишет...
Ну как? Арабовские сценарии ты же читаешь просто, как литературное произведение.
А потом его Сокуров разрушает.
И все равно же есть какая-то основа литературная, от которой он отталкивается.
В данном случае я сразу шел от того, что надо все разрушить, и строить из разрушенного. Дело в том - из чего ты строишь. Кирпичики. Кирпичи могу быть – гениально сыгранные сцены больших артистов. Кирпичики могут быть – просто документальные кадры. Вот документ – это золото. Но сложить из этого здание очень сложно.
Подождите, но вы сочиняли историю? Когда к вам уже привели персонаж, когда вы уже со всеми познакомились, когда вы их знаете, а дальше, что начинается?
Ну, надо смотреть кино. Мне трудно... Мы сочиняли историю по ходу жизни. Что сегодня делает Колобок. Так есть характер – Колобок. Его не видел никто. Пошли искать с камерой. Где Колобок? А он к Вале пошел. Пошли к Вале. Колобок там лежит на ступеньках.
Интересно, это уже, вообще, непонятно, что это такое?
Колобок пошел. Где? Побежали, с камерой идем за Колобком... Замечательный характер. Мы его зовем Вольтер. Он очень похож на Вольтера. Такой замечательный человек метр пятьдесят максимум. Поэтому трудно сказать...
Но это закончить невозможно... можно бесконечно снимать.
Можно. Можно бесконечно. Но, я думаю, что мы набрали достаточно количество таких кирпичиков. Нет, дело не в истории... Мне было интересно с Лешей больше всего, когда он один. Я очень много снял его, когда он просто один. Это удивительно, когда смотришь за человеком.Мы поставили камеры, и у нас были камеры наблюдения в пяти домах.
А они знали об этом?
Сначала знали, потом забыли. Но, когда он один на лодке, дома, в поле – наверное, это самое главное, что показалось мне самым важным в картине.
А вы ему показывали уже материал?
Какой? Зачем? Сам-то еще видел три раза. Один раз с Димой.
Но будете показывать самим героям?
Ну, конечно буду, но это самое главное.
А они могут сказать: «Нет, я запрещаю»?
Нет.
Просто интересно. Вы говорите там камеры видеонаблюдения. Или меня, как персонаж, как типаж в данном случае использует режиссер, которые снимает меня в тех обстоятельствах, которые ему выгодны. Вы же все равно снимаете кино свое, это же не документальный фильм...
Такого нет понятия. Любое кино, любое искусство – это отбор. Тот или иной отбор и тогда возникает искусство, а не правда. В любом случае искусство – это не правда. Верней, не так - как Пикассо сказал: «Большая ложь, помогающая понять правду жизни».
Все равно это отбор, но тут-то самое главное и возникает: как ты отбираешь кадр за кадром. Кино – это не история, кино – это дорога, выложенная картинками. И когда эта дорога выложенная картинками в одном изгибе, то она тебя ведет в одну сторону – одна картинка за другой. А не то, что люди говорят, и кого они там убивают. Это тоже важное кино. Это важная история – сценарий. Но настоящее кино – это просто, как звуки: один за другим выкладываются и куда-то ведут. Кого-то волнует, а кого-то нет. Вот тут проблема.
Когда вы выпустите фильм?
Я думаю, осенью.
Андрей Сергеевич, мы должны уже заканчивать. Мне очень понравилось, как вы сказали на «Нике»: «Это всего лишь кино». Вы комментировали кого-то из великих.
Да.
Спасибо за то, что нашли время для нас, я вам желаю, чтобы все было хорошо, и чтобы все закончилось хорошо. И большой поклон передавайте вашей замечательной жене Юле. Мы вас очень любим. Возвращайтесь к нам!
Спасибо, я вас тоже! Спасибо.