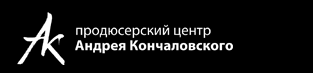Hard day`s night
Зыгарь: В последнее время, если не считать вашей театральной премьеры в Неаполе, о которой мы еще поговорим, в российском медиа-пространстве вы фигурировали в большей степени не как режиссер, не как кинодеятель или театральный деятель, а как публицист и полемист из-за того, что вы начали довольно любопытную полемику с Русской православной церковью на страницах «Российской газеты». Сначала написали статью «В какого Бога верит русский человек», и вам бросились отвечать разные иерархии Русской православной церкви. Скажите, зачем вам это? Зачем вы вступили на этот путь?
Кончаловский: Я в полемику не вступал. Я просто написал статью, пытаясь разобраться в гносеологии, происхождении, я бы сказал сущности русского религиозного сознания. Об этом очень много писало выдающихся русских людей. Мы переживаем определенный всплеск официальной или неофициальной религиозности, и два события, которые меня побудили написать: пояс Богородицы и паломничество колоссальное к поясу в собор Христа Спасителя, и дело Pussy Riot, реакция общества и государства. Мне просто стало интересно попробовать разобраться, какая гносеология, происхождение русского религиозного сознания.
Дело в том, что Антон Павлович Чехов, которого я чту не только великого драматурга, но и одного из величайших русских людей и философов, хотя он не писал... он написал очень маленькую заметку в своих дневниках, потом перенес это в «Записки». Такая заметка была: «Между утверждением «Бог есть» и «Бога нет» лежит огромное поле, которое с трудом за свою жизнь проходит истинный мудрец. Русского человека середина не интересует. Его интересует только крайности. То есть Бог есть, Бога нет. Поэтому он о Боге знает либо ничего, либо очень мало». Глубочайшее замечание. Основываясь на этом замечании, я и попытался разобраться в своей статье, какова природа русского религиозного сознания. И мне кажется, я недалек от истины, когда говорю, что русское религиозное сознание языческое по своей сути. Потому что он не развивалось в течение тысячелетий. Не развивалось в силу того, что была запрещена, догматически воспрещена попытка критического осмысления религии.
Лобков: Инквизиции были везде, с другой стороны, известен парадокс, что нет православного государства с успешной экономикой.
Кончаловский: Да, это я как раз в своей статье привожу.
Лобков: Один из ваших излюбленных тезисов. Вы как это объясняете?
Кончаловский: Это не моя излюбленная... Это статистика.
Зыгарь: А объяснение есть какое-то?
Кончаловский: Ну, вы знаете, это интересный вопрос, потому что сейчас мы касаемся не столько проблем религии, сколько проблем, которые можно назвать «системой ценности той или другой национальной культуры». Система ценности определяется некоторыми факторами, самыми базовыми: климат биография, религия. Это три вещи и определяют во многом систему ценностей. Кто наши соседи, как тепло, как много солнечных дней, и какая религия.
Потому что наши соседи финны, у которых погода тоже не очень хорошая, почему-то чрезвычайно успешны. У них религия другая. И с этой точки зрения, важно разобраться в том, что вы поднимаете этот вопрос. Потому что пока мы не сообразим, и не попробуем разобраться... Я называю это культурным геномом. Есть геном биологической культуры, а есть культурный геном. Мы разобрали физиологию человека с генетической точки зрения, но мы не разобрали культуру российскую на составные части, то есть на систему ценностей. Какие приоритеты. Потому что нет такого понятия, как человек и закон. Есть русский человек и закон, японский человек и закон, немецкий человек и закон. И они абсолютно разные. Три разных человека, которые относятся к одному и тому же закону.
Зыгарь: Андрей Сергеевич, как вы восприняли тот факт, что первые лица РПЦ принялись отвечать вам на ваши размышления?
Кончаловский: Во-первых, не первые лица, а один.
Зыгарь: Митрополит Илларион, он один из первых людей в Русской православной церкви.
Кончаловский: Но это не первые лица, а один из первых лиц РПЦ.
Зыгарь: Еще был ответ протодиакона Андрея Кураева.
Кончаловский: Да. Мне кажется, что оба ответа чрезвычайно интересны. Во-первых, они в своих выступлениях относятся с уважением к той проблеме, которую я поднял, в частности, к вопросам, которые, казалось бы, нельзя трогать. Мне кажется, что митрополит Илларион – исключительно высокая интеллектуальная фигура. И я бы сказал, очень образованная. По-моему, он написал предисловие к русскому изданию выступлений Папы Павла. Это что-то значит. Но эти выступления в определенной степени являются точкой зрения истинно православного человека. Истинно православный человек, по-русски, если понимать, - человек, который не должен сомневаться. Сомнения – гибель для ортодоксального сознания. Недаром наша религия называется ортодоксальной.
Олевский: Я посмотрел последние ваши высказывания о русском народе, о том, что русский народ не готов к демократии в силу разных причин, о том, что у русского народа нет чувства ответственности. О том, что очень низкая культура, и другие высказывания довольно критические в попытке как раз разобраться в геноме народа и прочее, но получается в этом некое лукавство. Потому что вы объясняете, почему русский народ не готов к демократии со своей позиции, а, например, за стенкой Кремля объясняют, почему русский народ не готов к демократии со своей позиции. Вы понимаете, что вы на самом деле с ними согласны, и очень помогаете объяснять, почему в России демократия не нужна. Не предлагая ничего взамен.
Кончаловский: Я ни там, ни тут. Я здесь. Всегда. Там, где я, я и нахожусь.
Олевский: Ну, вы согласны с утверждением, предположим, некоторых власть имущих в России сейчас, что русский народ не готов к демократии, поэтому та власть, что сейчас есть, пусть так и будет.
Кончаловский: Но я вам должен сказать, меня, в принципе, когда я говорю какую-то фразу, мало интересует, что, как вы сказали, «там думают по этому поводу». Меня интересует то, что я думаю по этому поводу. Это первое. Второе: утверждение, что русский народ не готов к демократии настолько банально, что дальше некуда. Просто в силу того, что сама практика показывает, что он к ней не готов.
Олевский: А может это вредное утверждение?
Шакина: Может быть, он тогда не будет к ней и готовиться никогда?
Кончаловский: Да, нет. Это так же, как говорить, что больной человек выздоровел. Или нельзя говорить о том, что больной человек выздоровел. Давайте будем говорить, что он не болен, а что он сейчас выздоровеет. Это так же.
Шакина: Так обычно и говорят.
Кончаловский: Но это неправильно. Надо лечить болезнь.
Шакина: Одновременно?
Кончаловский: Но прежде чем лечить, надо понять причину болезни. Ведь причина болезни очень глубоко заложена. Почитайте статьи, я уже не говорю Бердяева, почитайте статьи Янова, замечательного историка.
Олевский: Сколько веков, по вашим оценкам, русский народ не будет готов к демократии?
Кончаловский: Дело не в веках.
Шакина: И когда он, главное, начнет уже готовиться?
Кончаловский: Тут фактор не временной. Все прорывы в науке, допустим, совершались... Накапливалось, потом происходил качественный сдвиг. То же самое можно сказать и о... Демократию нельзя создать. Потому что нельзя просто взять... В России было столько свободы в 90-е годы, дальше некуда. Кто этим воспользовался, мы с вами очень хорошо знаем. В этом и вся загадка, и задача моя, пока я что-то соображаю, еще попытаться разобраться и поделиться с тем, что вряд ли это очень много народу может порадовать. К сожалению, то, что я говорю, 96% людей ругают разными словами. Если бы со мной были согласны 30% населения страны, это была бы другая страна.
Шакина: А кто воспользовался, назовите конкретным словом, свободой, которая была в 90-е? Что вы имеете в виду?
Кончаловский: Думаю, что массовый русский человек не воспользовался тем, что он получил тогда.
Шакина: А кто воспользовался тогда?
Зыгарь: Вы сказали «кто воспользовался - понятно». Расшифруйте.
Кончаловский: Воспользовались люди, которые были близки к источникам государственного богатства. Которые были очень предприимчивы. Но смотрите, что получилось. В 90-е годы можно было, грубо говоря, начать любой бизнес. Чем кончилось? Сегодня в России, в принципе, среднего бизнеса нет. Его невозможно сделать. Монополизация происходит мгновенно. Как один африканский социолог сказал про свою страну, что «у нас хардуер демократический, а вот софтуер у нас авторитарный». Вот то же самое можно сказать и про Россию. Я очень часто сравниваю Россию с Африкой.
Зыгарь: Вы часто сравниваете с Африкой. Вы согласны, к примеру, с высказыванием Сергея Брина, основателя компании «Гугл», что Россия – это Нигерия в снегах.
Кончаловский: Можно и так сказать. Я считаю, что как в Африке, так и в России не существует гражданского общества. То есть нет граждан, поскольку нет граждан, есть население. Население не составляет общество, поэтому в любой стране африканской, практически любой, как и в России, население и государство живут отдельно друг от друга. Государство для русского человека трансцендентно.
Лобков: Справедливости ради: вас многие годы объединяла дружба, конструктивное сотрудничество с мэром Москвы Юрием Лужковым.
Кончаловский: Какая дружба у меня с ним была? Вы что обалдели?
Лобков: Вы делали эти массовые представления, насколько я знаю.
Кончаловский: Меня попросили сделать, я сделал.
Зыгарь: Но личных разговоров у вас не было?
Кончаловский: У меня было два разговора с ним в жизни.
Зыгарь: Расскажите о них.
Кончаловский: Один раз он мне рассказывал про то, что он книжку написал. Я у него был как раз по поводу... Нет, кстати говоря, первый раз я у него был, попросил в 1995 году какое-нибудь место, потому что я хотел сделать культурный центр, пространство. Он тогда написал что-то, разрешил, и до сих пор ничего не построил. Теперь уже и у Собянина об этом просил. А второй раз мы с ним встретились, потому что это было 850-летие Москвы...
Лобков: Да-да-да. Огромный контракт. Я просто имел в виду другое: он далеко не самый демократический лидер с демократической ментальностью был в нашей стране...
Кончаловский: Самый демократический лидер, судя по всему, был Ельцин...
Лобков: И ваши убеждения не помешали вам сотрудничать с Юрием Михайловичем.
Кончаловский: Конечно, нет. Я же не политик. Я художник. А выступаю в данном случае, как...
Катаев: А художник может дистанцироваться от политики? Режиссеры, актеры?
Кончаловский: Я думаю, что художник – это вообще птица. Поет.
Катаев: Но политика должна с ней связываться, вступать в общественный фронт или что-то еще?
Кончаловский: Кто-то должен, кто-то нет.
Катаев: Ну, а вы для себя как?
Кончаловский: Я нет. Я с Антоном Павловичем согласен, когда он писал: «Я не постепеновец, не либерал, не консерватор, оставьте меня в покое, я художник».
Зыгарь: Но при этом очень многие ваши коллеги, прославленные, начиная со Станислава Говорухина и далее, Олег Табаков, Александр Калягин, многие с некоторой выгодой для себя, многие – без выгоды, по велению души, присоединяются к списку доверенных лиц президента Путина, к списку членов ОНФ. Вы для себя не рассматривали такую возможность? Вам, может быть, предлагали это?
Кончаловский: Мы сейчас обсуждаем тот вопрос, который, в принципе, обсуждается только в авторитарной дикой стране, как Россия. Вы с ними, вы против них, вы согласны, вы не согласны? Один хочет, второй – нет, третий хотел бы, но его не зовут. Я имею роскошь жить, как мне хочется, делать, что мне хочется. И я счастлив этим.
Олевский: Тогда почему не получилось построить ваш культурный центр? Вы не умеете хорошо просить, или они не в состоянии оценить ваш талант, или посчитали, что вы чуждый элемент для этой страны?
Кончаловский: Кто его знает, я думаю, что бюрократия, и то, что я не очень... я неважный бизнесмен, честно говоря, по-настоящему.
Зыгарь: Это говорит успешный в прошлом голливудский продюсер.
Кончаловский: Кто?
Зыгарь: Вы.
Кончаловский: Какой же продюсер? Я никогда не был продюсером, я был режиссером всю жизнь. Продюсером я не был – раз. Во-вторых, не голливудским. Если бы я был в Голливуде, я бы остался там. Я в Голливуде пытался снять одну картину «Танго и Кэш», поругался с продюсерами насмерть, был счастлив, когда мы расстались. Не закончил картину.
Шакина: А «Гомер и Эдди», а «Одиссея» - внестудийное кино? А, «Одиссея» - это европейское кино, прошу прощения.
Кончаловский: «Одиссея» - это, во-первых, это телевизионный сериал. Это вообще другое. Это не Голливуд.
Шакина: Это понятно. Но вы не один фильм пытались снять в Голливуде. Тем более, вы не пытались, вы сняли.
Кончаловский: Я много картин снял в Америке. Слава Богу, там были два израильтянина, которые сделали классную компанию, и они мне дали вообще карт-бланш. Я снял абсолютно свои картины. Какие хотел, такие и снимал. Это было вообще чудовищное везение после трех лет попыток объясниться. Голливуд вообще изменился. Я бы сейчас и не решился туда ехать. Когда я приехал в него, - это был какой год... 1980-й – это было еще время, когда Коппола снимал.
Шакина: Когда автор что-то значил?
Кончаловский: Да. «Крестный отец» стоил 6 млн. Тогда считалась большая сумма. Сейчас картина, которая стоит 70 млн. не... абсолютно другая... Голливуд рисковал, он снимал много картин, там были разные... было еще влияние Европы после войны. До войны Голливуд влиял на Европу. После войны Европа стала сильно влиять на Голливуд. И американские режиссеры учились у новой волны, у неореализма. Это было.
Потом потихоньку Уолл Стрит. Как только Уолл Стрит обратил внимание, большие деньги, это случилось, между прочим на «Звездных воинах» когда «Фокс» дал 10 млн. или сколько, большие деньги, Лукасу на «Звездные войны», и он снял вот это вот, как они считали, полный бред собачий – какие-то там летают корабли, звезды... И вдруг... А у Лукаса все права на мерчендайзинг, все права – у него все было. И он снял картину, которая взорвала. И вдруг Голливуд понял, Уолл Стрит понял, что в кино пришло другое поколение. Тинейджеры. Я почему об этом сейчас говорю? Это очень важно понять: куда движется западная цивилизация.
Зыгарь: Впадает в детство?
Кончаловский: Нет. Рынок до 80-х годов, культура, литература, театр, кино делалось для родителей. Родители были главными потребителями продукта. Поэтому были великие писатели, режиссеры. В 80-е годы вдруг появилось поколение другое консуматоров, потребителей, и рынок двинулся куда? «Звездные воины», «Айрон мэн», «Гарри Поттер»... все двинулось в эту сторону. Поэтому сегодня Голливуд представляет собой, грубо говоря, огромный Дисней. Только тот снимает рисованные, а этот – нерисованные.
Шакина: Ну, авторы-то сами подставились. Серебряный век Голливуда как закончился? С провалом Копполы, которому дали гигантские авансы, потом самый его дорогой фильм провалился, в который были вложены все деньги. Они поняли, что авторам все-таки нельзя доверять, и больше никогда им не доверяли.
Кончаловский: Авторам нельзя доверять, когда доверяются большие деньги. Это правда. Поэтому чем дешевле картина, тем больше свободы. В Голливуде нельзя делать дешевые картины. Американское кино не в Голливуде. Американское кино где угодно, только не в Голливуде.
Шакина: Вне студий, конечно.
Кончаловский: Вне студий. Молодые люди снимают кино в Нью-Йорке, в Чикаго, в Мэмфисе, и они пытаются делать, потом появляется первый успех, Голливуд смотрит, дракон, - шлеп – берет его и опускает вот в этот бульон. И там он все. Кончается.
Зыгарь: Как вы относитесь к успеху Тимура Бекмамбетова? Можно сказать, второго после вас российского режиссера, который чего-то добился в Америке.
Шакина: И продолжает добиваться.
Кончаловский: Когда мы говорим «добился», вы что имеете в виду? Что он делает кино?
Зыгарь: Вы считаете, что он еще ничего не добился?
Шакина: Ему доверяют крупнобюджетные проекты, звезд.
Олевский: И он как раз продюсером стал.
Кончаловский: Да. Я думаю, что он молодец, потому что он действительно не только талантливый кинематографист, а он кинематографист, безусловно. Он еще и производственник правильный. Очень разумно рассматривает свои способности, возможности, соизмеряет их с индустрией, потребностями индустрии и, я думаю, что находит общий язык со всеми, кого интересует продукт, который можно продать.
Я не находился в этой ситуации совсем, потому что я не делал продукт. Из рекламы я вылетел, потому что мне хотелось, я быстро переоценил свои возможности, когда-то я делал рекламу, в 80-е годы. Честно говоря, в общем, я не очень быстро нахожу общий язык с продюсерами.
Шакина: Подождите, но ведь клипы для Димы Билана можно продуктом назвать?
Кончаловский: Это не какой-то продукт, ну, кому он нужен? Я снял Диму, потому что он...
Шакина: Всем поклонницам Димы.
Кончаловский: Да, ну. Если он спел у меня замечательно песню, я снял его. Мне нужно было, чтобы в «Глянце» пел кто-то на хорошем итальянском.
Олевский: Вот такие варяги из России в Америку, как Тимур Бекмамбетов, будет второй, может быть, Бекмамбетов, могут поменять тренд? Как итальянцы в свое время.
Кончаловский: Когда вы говорите «тренд», то по-русски как это?
Олевский: Это значит, отношение Голливуда к производству своих картин. Привнести русскую школу или еще что-то? Вообще, существует еще русская школа?
Кончаловский: Нет, вообще, русская школа никому не нужна в Голливуде, так же, как не нужна французская, итальянская. Голливуд – это производство массового продукта для интернационального, транснационального зрителя. Голливудские картины не имеют никакого запаха и вкуса. Как клубника в Калифорнии. Она очень красивая, но вкуса никакого.
Шакина: Вы нахваливали Копполу, вам, очевидно, нравится его кино.
Кончаловский: Помимо того, что я не объективен, потому что я очень люблю его как человека, он друг мой.
Шакина: Вы видели его последний фильм?
Кончаловский: Последний – нет. Но несколько картин, которые он снимает на свои деньги, они мне не очень близки.
Шакина: Есть такое впечатление у многих, что ему пора бы остановиться в какой-то момент.
Кончаловский: Ну, ради Бога. Пускай они думают, что хотят. А Фрэнсис будет делать то, что хочет.
Шакина: Даже если это не очень удачно?
Кончаловский: Абсолютно. Жизнь – такая короткая вещь, что надо делать не для того, чтобы удачно, а для того, что ты можешь это сделать!
Шакина: Дело в том, что только что была на «Кинотавре», и смотрела там фильм-открытие. Это был фильм Станислава Сергеевича Говорухина, римейк Луи Маля «Лифт на эшафот» под названием «Уик-енд». Он снял совершенно серьезный фильм, а зал хохотал. И я это наблюдала. Он обиделся, сказал, что больше никогда кино снимать не будет. Как вам кажется, может, надо останавливаться до того, как зал будет хохотать?
Кончаловский: Не надо никогда останавливаться. Останавливаться надо, когда помрешь. Оно само остановится, не волнуйтесь. Я жалею, что Станислав обиделся на публику. Фильм не становится ни хуже, ни лучше от того, что публика его полюбила или нет. Гайдар как-то сказал замечательно, что если хороший фильм имеет успех, значит, публика его недопоняла. Я не знаю, какой он снял фильм, может быть, хороший, может быть, не очень. Это не имеет значения. Человек должен делать то, что ему хочется, и за это отвечать. Если ему не хочется больше снимать – не снимать. А если есть возможность – пусть снимает.
Шакина: А чувство меры? Вот у вас замечательный вкус, это известно всем. Это же способность остановиться. Одеть этот пиджак, а не какой-нибудь красный, да?
Кончаловский: Вы знаете, если мы будем сравнивать пиджак с желанием делать кино, мы далеко не уедем.
Шакина: Соглашусь.
Лобков: В последнее время буквально как из пулемета выстрелило несколько фильмов, периодически их поддерживает министерство культуры. Это «Легенда №17» про Харламова...
Кончаловский: Что-то мы все время про кино?
Лобков: Сейчас про Гагарина. Это не про кино, это про диалоги – про самое важнейшее из искусств. Дан приказ снимать фильм про Яшина.
Зыгарь: Более того, президент недавно перечислил на встрече с кинематографистами 12 основных тем, на которые он рекомендовал бы снимать ленты.
Лобков: Причем они сделаны довольно качественно, я имею в виду, картинки – все хорошо.
Кончаловский: Вопрос?
Зыгарь: Вы могли бы взяться за то, чтобы по одной из перечисленных тем...
Катаев:...там Первая Мировая война...
Кончаловский: По любой могу снять картину.
Катаев: По любой, да? И про Героя труда?
Кончаловский: И про Героя труда могу снять.
Зыгарь: Возьметесь?
Кончаловский: Микеланджело делал только на одну тему – религиозную, и получалось гениально.
Шакина: И Лени Рифеншталь придерживалась некоего эстетического курса.
Кончаловский: Да, нет. О чем речь? На любую тему могу снять хороший фильм.
Зыгарь: Вы готовы начать?
Кончаловский: Простите меня, мне предложили 30 лет назад снять фильм про нефтяников. Я снял «Сибириаду». Я считаю, что это не такая плохая картина, если я получил Гран-При в Каннах.
Шакина: Нет, то, что вы можете – это понятно. Но будете ли снимать?
Кончаловский: Ну, пока никто не предлагает.
Шакина: А если предложат?
Кончаловский: Посмотрим.
Шакина: Тогда «посмотрим», а сейчас – «пока непонятно».
Кончаловский: Я бы с удовольствием снял картину про распад СССР. Великое эпохальное событие.
Шакина: Уже Карен Георгиевич снял об этом картину.
Кончаловский: Нет, ну, вы знаете, речь идет... «Гамлета» можно много раз ставить.
Катаев: Вы согласны, что это главная геополитическая катастрофа все-таки – распад СССР?
Кончаловский: Для России?
Катаев: Да. С Путиным согласны?
Кончаловский: Нет, я думаю, что главная геополитическая катастрофа – это Распутин.
Катаев: Распутин?
Кончаловский: При Николае II.
Катаев: Вы серьезно? Именно Распутин?
Кончаловский: Я имею в виду события все. Я сейчас этим подробно занимаюсь, меня очень интересует...
Зыгарь: Вы хотели бы снять фильм с Жераром Депардье?
Кончаловский: Нет, я думаю о том, что произошло между 1905-м и октябрем 1917 года. Как происходило, и что происходило в России в это время? Мне очень интересно.
Зыгарь: Хотели бы вы снять фильм про Распутина с Жераром Депардье в главной роли? Мы все наслышаны, что такая картина готовится.
Кончаловский: Во-первых, она уже готова. Во-вторых, можно и с Жераром Депардье, но должен быть мой сценарий. А это сценарий не мой. Я пишу сам свои сценарии. Дело в том, что сценарий – это главное, ребята. Дело же не в том, кто герой. Нет скучных историй. Есть скучные рассказчики. Любая история может быть великим произведением, темой для потрясающих произведений.
Лобков: Это такой цинизм художника, вполне понятный.
Кончаловский: Какой цинизм?
Лобков: Ну, какой: «берусь за все».
Кончаловский: Почему же цинизм? Разве в этом цинизм? Я мастер. Почему цинизм? Я просто мастер. Поучитесь у художников Возрождения. Чтобы Леонардо ни заказывали, он делал.
Шакина: А этика?
Лобков: Путин – не Медичи все-таки.
Кончаловский: А причем здесь этика? Я создаю прекрасное.
Зыгарь: Есть ли тема, от которой вы отказались? Предположим, приходит к вам чиновник от министерства культуры и приносит....
Кончаловский: Да, есть.
Зыгарь: Что?
Кончаловский: Олигарх один мне предлагал снять фильм про его историю. Я сказал, что не могу этого сделать.
Зыгарь: Историю своей жизни?
Кончаловский: Про какого-то человека конкретно живущего сегодня я бы вряд ли согласился снимать кино, особенно если он за это платит. Кошмар.
Олевский: Заказной боевик. А как вы оцениваете те телевизионные постановки, которые мы видим, например, съезд Народного фронта или предвыборный съезд «Единой России» - массовые, большие красивые, похожие на американские съезды партии республиканцев российские аналоги, где большой зал...
Кончаловский: Вы имеете в виду, как пиар-ход?
Шакина: Как режиссерски оцениваете это дело?
Кончаловский: Режиссерски сделано блистательно, артисты неважные.
Олевский: Сравнить их можно с теми же американскими артистами? Они сильно отличаются? Я имею в виду американскими политиками.
Кончаловский: Нет, думаю, просто... в Америке очень часто текст импровизируется. А здесь он прописан.
Зыгарь: Вы ставили торжества по случаю 850-летия Москвы. С учетом этого опыта, вы бы сейчас поставили, скажем, съезд ОНФ или «Единой России» иначе?
Кончаловский: Я бы никогда не ставил... вы не сравниваете 850 лет Москвы со съездом. Вы что обалдели?
Катаев: А Олимпиаду?
Лобков: Инаугурацию?
Кончаловский: Олимпиаду я бы делал, разговоры были у меня даже с Эрнстом. Это интересно, но хорошо, что у меня не получилось.
Зыгарь: Вы отказались? Или они передумали?
Кончаловский: Полтора года назад я рассматривал это.
Зыгарь: Расскажите эту историю. Как это было?
Кончаловский: Это было просто – вопросы были, кто может поставить, ко мне обратились организаторы. Я сказал, что я это буду делать, если буду делать только с тем художником-постановщиком, с которым я делал 850 лет Москвы. Это мой друг Марк Фишер, который, кстати, сделал Пекинскую Олимпиаду, и Ванкувер. Великий архитектор рок-н-ролла. Он сделал все проекты Rolling Stones. Марк Фишер делал дизайн 850 лет Москвы.
И когда они мне предложили, я сказал: «Марк Фишер? Я согласен». Мы с Фишером договорились. Марк поехал туда, посмотрел, сказал: «Ну, проект стадиона, его нет, его строят». Я сказал: «Да». «Как же можно строить проект без дизайна открытия?». Сначала делается дизайн открытия, а потом делается архитектурный проект стадиона. В Пекине 6 этажей вниз под футбольным полем – лифты. Там построена колоссальная инфраструктура. А здесь просто бетон и глина. Уже он сказал это... Я тогда говорил, что давайте сейчас быстро мы готовы... Но там уже все строится, там уже... Я сказал, что мне нужен абсолютный контроль художественный... В общем, понятно, что я не вписался в эту систему.
Шакина: В общем, Марк отказался, отказались и вы из-за этого?
Кончаловский: Ну, там, я думаю, будет роскошное шоу все равно. Потому что Эрнст взял прекрасных очень серьезных людей, там все будет ослепительно.
Зыгарь: А кто будет режиссером вместо вас?
Кончаловский: Там всем, по-моему, занимается Эрнст. И там серьезные артистические силы привлечены из Америки. Там может быть все роскошно.
Шакина: Режиссеры из Америки?
Кончаловский: Вы знаете... Режиссура – такая вещь... В массовых представлениях режиссура определяет только тенденцию и эстетику. Потом дальше начинаются вопросы технического оснащения, воплощения. Там средства определяют режиссуру, а не наоборот. Я имею в виду, что можно, что нельзя. Как можно бегать, летать по воздуху, какие гигантские образы можно создавать и так далее. Это сложная вещь. Любое массовое действие требует... это как большая баталия. Это нужно быть маршалом. Там много есть – тылы и все...
Лобков: Я знаю, что у вас было очень необычное увлечение, может, оно продолжается, вы исследовали туалетную культуру в разных странах. То ли собирались документальный фильм снять, то ли все-таки его сняли, но, по крайней мере, я его не видел.
Кончаловский: Я создал несколько художественных образов в «Курочке Рябе».
Лобков: Вы считаете, что в том, как устроен сортир в той или иной стране, заключен культурный код этой нации. Это правда или нет?
Кончаловский: Можно сказать, что правда. Я думаю, что есть несколько самых простых вещей, по которым видно культурный код и систему приоритетов.
Лобков: Про русский сортир что вы можете сказать?
Кончаловский: Туалет?
Лобков: Да.
Кончаловский: И вторая вещь – движение уличное, передвижение, трафик. Это две вещи во многом определяют культуру того или иного народа. Во-первых, мне кажется, что русский человек... Я говорю, что есть две России. Есть огромная московская Россия, Московия, которую Петр пытался на дыбы поднять. И воссоздал вторую Россию, европейскую, малый народ, я его называю. Это малая Россия, петровская, и создала то, чем русский человек может гордиться: Чайковский, Пушкин – все это после Петра. До Петра, спросите у митрополита Иллариона, они назовут 3-4 имени, и кто они – Рублев, ученик Феофана грека, грек – из Греции и так далее. Я считаю себя русским, но я считаю себя европейским русским.
А существует еще не европейская Россия. У нее чрезвычайно низкая потребность в жизни. Они привыкли в жизни довольствоваться минимальным. Вы сейчас посмотрите, по-моему, это недавно было, «Левада» или кто-то еще обратил внимание на то, что 40% или 45% опрошенного населения большой России не нуждается в туалетах дома. Их вполне устраивает ходить на улицу. Вполне. Это очень важно понять.
С одной стороны: чрезвычайно низкая требовательность бытовой жизни. Чрезвычайно низкая. Я считаю, что Иван Денисович, в принципе, Александр Исаевич, жил, живет и будет жить. Сейчас если как Иван Денисович практически пол-России живет. Пайка, два рубля, пенсия – и все хорошо. Поскольку очень низкая потребность, это определяет во многом общественные туалеты.
Вторая вещь – отсутствие анонимной ответственности. Общественный туалет у нас почему грязный? Вот дома, дома туалет чище почему? Потому что всегда мама знает, кто мимо писает, и кому-то надает по попе, или скажет: «Ну, ты опять поднимай унитаз!» Анонимности нет в семье.
Я обратил внимание, что в тюрьме, то есть.... Оговорился хорошо... В деревне очень сложно вору. Всегда знают, кто вор или кто проститутка. Как только крестьянское сознание, Московия, попадает в город, анонимность развивает в нем, прежде всего, криминальный инстинкт. Никто не видит.
Лобков: А Бог же видит.
Кончаловский: О! А у нас Бог все простит.
Зыгарь: Давайте продолжим вашу тему европейских русских.
Кончаловский: И потом, Бога можно занавесить. В красном углу занавешивают икону, когда занимаются сношением.
Зыгарь: Простите, вы заговорили про то, что в России есть большая Россия, и есть европейские русские.
Кончаловский: Но их расстреляли к 1941 году почти всех.
Зыгарь: Вы себя тоже считаете европейским.
Кончаловский: Остаток недобитых.
Зыгарь: В последнее время наметилась тенденция, по крайней мере, может быть, так кажется, что многие европейские русские стремятся воссоединиться с той частью, к которой они себя причисляют, с Европой. У нас много новостей за последнее время было, что какие-то видные экономисты, и не только за последние недели, Сергей Гуриев – одна из последних новостей была, другие известные люди, уезжают из России, потому что, может быть, не видят смысла здесь больше оставаться.
Кончаловский: Не надо, думаю, рано еще тенденцию искать. У Гуриева есть определенная, очевидно, он очень хорошо по этому поводу говорит, и связь, очевидно, с Ходорковским. Но вообще, когда вызывает Следственный комитет, то вряд ли уютно сидеть дома, когда особенно жена и дети в Париже. Я не думаю, что многие европейские русские уезжают. Знаете, Академия наук наполовину состоит из русских европейцев, я не говорю о том, что есть огромный культурный слой и так далее – такой европейской России. Когда говорю «огромной» - 0,3%.
Катаев: Вы в каком-то интервью говорили, что когда дела совсем плохо пойдут в России, вы готовы, в принципе, отказаться от российского гражданства, уехать. Насколько я понимаю, у вас есть французское гражданство.
Кончаловский: Нет, я не готов. Я уеду, если из этой страны нельзя будет уехать.
Катаев: Когда границы закрывают?
Кончаловский: Да, патриотизм начинается с возможности уехать. Вот когда нет возможности уехать, то все патриоты становятся сразу почему-то. Я думаю, есть возможность уехать и живет здесь – значит, патриот.
Катаев: Как вы думаете, это может скоро наступить?
Кончаловский: Все может случиться. В данном случае... был такой марксист Антонио Грамши. Он, просидев в тюрьме достаточное количество времени, пришел к интересной идее: класс-гегемон – это ошибка. Обществом управляет идея-гегемон. Вот когда какая-то идея становится гегемоном, общество меняется.
Накануне 1913-16 годов идея-гегемон была «царизм умер». Это была гегемон: царя ненавидели его братья, все великие князья, все сгнило к чертовой матери. Царица-мать не разговаривала с императрицей. Там катастрофа была. И вокруг царя организовалась... он пил! Оказывается, он пил! Я не знал. Его Распутин от запоев лечил, ребята, и они еще торговались. Николай говорит: «Ну, не месяц, давай две недели». Поэтому когда я говорю идея-гегемон... У нас идея-гегемон сейчас – ее нет. Никакой. Идея-гегемон: «Оставьте нас в покое». И побольше пенсия.
Лобков: Антиамериканизм? Мы единственная держава, сопротивляющаяся однополярному миру и мировому жандармов, и в этом наша историческая функция. Посмотрите любое выступление Путина. Там проводится: «мы избранный народ»...
Кончаловский: Я же говорю не об идеях, высказываемых по телевизору. Я говорю об идеях, которые владеют нацией. Идея-гегемон – это то, что народ с ружьем не хочет больше воевать, как это было в 1914 году. Это была идея-гегемон. А что сейчас? Чтобы пенсия не меньше была. Не забывайте, что у нас практически не существует продуктивного человека, как говорил Струве, большой марксист. Цивилизацию, общество определяет продуктивность индивидуума. Сколько он производит чего-то: помидоров, картошки. Сколько людей у нас ничего не производят? Они просто получают пенсию или что-то еще, не в неолите живут.
Олевский: Скажите, а кто может произвести эту идею-гегемон? Может быть, вы или ваш брат? Или кто?
Кончаловский: Она рождается сама. Это такая вещь... она растет снизу. Когда вдруг все обрыдло, и вдруг – и возникает качественный скачок.
Шакина: Раз уж упомянули брата. Вы когда возглавили академию «Ника»...
Кончаловский: Какого брата? Мы разве брата упоминали?
Шакина: Только что. Тимур Олевский. Но я разовью без удовольствия, потому что нужно. Вы когда возглавили киноакадемию, вы понимали, что все скажут, что это в пику ему?
Кончаловский: Кто все?
Шакина: Общество. Публика. Зрители.
Кончаловский: Общества нет.
Зыгарь: Общества нет, но публика есть, зрители точно есть.
Кончаловский: Скажут, и что? Какая разница?
Шакина: Вас это не смущало?
Кончаловский: Нет, вроде.
Зыгарь: Вы это сделали в пику брату?
Кончаловский: Вы что обалдели что ли? Зачем мне? Я делаю, потому что я «Нику» люблю. Я получил ее в 1989 году за картину, которая была запрещена. «Ника» -это был дом кино, где выступал Сахаров, это вообще, ветер дул свободы в ширинку. Это чудо было время. Мне «Ника» нравится этим. И она никогда не стала официальной.
Зыгарь: В отличие от «Золотого орла»?
Кончаловский: «Золотой орел» - мощная организация. «Ника» - это, я бы сказал, межпоха.
Шакина: Забавно, что мощная организация была создана в пику «Нике».
Кончаловский: Это может быть. Но я поддерживаю «Нику», потому что она мне дорога. Тем более, что когда мне предложили это, я сказал: «Выберут, я...» Я был потрясен, когда выбрали. Там 430 голосов против. Но это все неважно, потому что все равно мне вряд ли доверяет кто-нибудь в этой среде кинематографической по-настоящему, потому что я в общественности никакой практически не участвую. Я пишу свои статьи, ставлю спектакли, где хочу, только то, что мне хочется. Вообще, я живу счастливой жизнью.
Зыгарь: Получается, вас выбрали, чтобы показать фигу Никите Сергеевичу?
Кончаловский: Не знаю. Я не думаю. Я думаю, что наоборот. Думали, ну, как же так, абсурд – два брата... все это довольно странно. Но в нашей стране странностей много.
Шакина: Абсурд, и, тем не менее, никого это не смутило. Даже рационального вас.
Кончаловский: А кто вам сказал, что я рациональный?
Шакина: Вы не рациональный? Вы же европеец.
Кончаловский: А почему вы считаете, что европейцы обязательно... Европеец – это просто человек, у которого есть система приоритетов.
Катаев: Вы думали перед тем, как возглавить, что все-таки брат возглавляет вторую важную премию в стране.
Кончаловский: Конечно, думал. Как это будет. А потом решил: ну, и что? Будет две... Все равно две академии, что само по себе не очень хорошо.
Зыгарь: А вы находитесь с братом в состоянии некоторого идеологического противостояния.
Кончаловский: Конечно. Мы с ним на разных полюсах философского восприятия мира, человека, личности, религии, государственности – всего. Мы абсолютно по-разному смотрим на...
Лобков: Вы встречаетесь в последнее время?
Кончаловский: Ну, конечно. Ну, он религиозный.
Катаев: Не европеец?
Кончаловский: Он очень русский человек, по-настоящему. Он такой... ну, как сказать...
Шакина: Страстный.
Кончаловский: Эмоциональный человек. Он по-настоящему религиозный человек. Я не религиозный человек, я вообще не могу сказать... Я даже Познеру, по-моему, сказал, что получилось само, но удачно... он спросил: «Что вы скажете, когда встретитесь с Богом?», я скажу: «Очень приятно, не знал, что вы существуете». Но я считаю, что лучше быть приятно разочарованным, чем неприятно разочарованным. Умереть и не найти там никого.
Шакина: Дурацкий вопрос, но мне интересно. Вы регулярно с Никитой Сергеевичем встречаетесь? Общаетесь, разговариваете? Вы не разговариваете?
Кончаловский: Почему? Разговариваем. Но мы очень мало разговариваем, в том смысле, что наши споры приводят его... ему тяжело со мной спорить, потому что он эмоциональный человек. Я говорю: «Надо размышлять», а он говорит: «Ты верь». Он по-другому устроен. Мы два взрослых дяди, вообще... взрослых. Не то слово – взрослых.
Олевский: Ну, у него же удобства не во дворе. Как же это у него умещается одновременно: и рускость, тот самый геном, о котором вы говорите, и при этом обычная европейская любовь к нормальной жизни...
Кончаловский: Ну, что за... Возьмите крупных почвенников – Аксакова... Вы так говорите, как будто рускость – значит, ходить на двор. Это несерьезно.
Олевский: А как?
Кончаловский: Это система приоритетов. Что вы считаете главным, что вы позволяете подвергать сомнению.
Лобков: Никите Сергеевичу удается извлекать дивиденды? Я имею в виду публичность, новые контракты, госфинансирование фильмов из своей рускости.
Кончаловский: Это не из-за этого. Он талантливый человек, хороший организатор, большой режиссер. У него большая компания, которая существует 20 лет, ребята. Он снимает неплохие... компания снимает много картин. Он производственник. Я совсем другой.
Лобков: вы считаете, что он успешен так не потому, что он попал в тренд, в струю державного государственного направления?
Кончаловский: Да он был и до этого державником. И в 1992 году, и в 1991-м. Посмотрите его картины, он весь пропитан русской философией, почвенной философией. Для него Гончаров... Ему Штольц стоит, как Обломову, кость в горле.
Катаев: В будущем в России победит ваша идеология, или вашего брата?
Кончаловский: Нет, я откуда я знаю, во-первых. Во-вторых...
Катаев: Ваше мнение.
Кончаловский: Вы знаете... это такая серьезная тема, но если отвечать на это дело... во-первых, я не знаю. Во-вторых, не забывайте, что Россия – периферия европейской цивилизации. Почему периферия? Потому что до нас не дошла ни античная греческая, ни иудейская схоластика, ни римское право. Россия – периферия Европы. И, тем не менее, она мыслит диалектически в отличие от Китая или Индии.
Существует не так много цивилизаций в мире, которые самодостаточны. Россия не может существовать сама по себе – это мое убеждение. Она в той или иной степени вынуждена будет выбирать между тем, чтобы стать китайским сателитом, либо договориться с Америкой и построить туннель под Беринговым проливом, создать супер-страду и насытить Сибирь европейскими понятиями. На мой взгляд. Иначе она исчезнет.