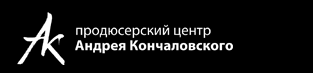Европа рискует стать огромной мусульманской империей
26 октября в кинотеатре «Художественный» открывается ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского. С режиссером, который в этом году отмечает 75-летие со дня рождения и полвека творческой деятельности, встретилась корреспондент «Известий».
— На какие фильмы вашей ретроспективы, может быть, не столь известные широкой публике, вы посоветовали бы сходить?
— Спросите Чехова, что бы он посоветовал почитать из его творчества. Смотрите, что хотите. Мои картины отражают мою жизнь: сначала я жил в Советском Союзе, потом уехал за границу, снимал кино там, потом вернулся в Россию и говорил о том, что меня тогда волновало. Я не объективен по отношению к тому, что я сделал. И советовать могу только близкому другу: «Темнота! Сходи посмотри, это мое серьезное кино».
— Свой двойной юбилей вы отметили премьерой в Театре Моссовета, поставили «Трех сестер» Чехова. Как вы чувствуете себя в театре — в своей тарелке или на чужой территории?
— Я не чувствую себя в театре на чужой территории, просто это другой жанр. Но в московской театральной среде я абсолютный иностранец. Я делаю свое дело, но меня стараются не замечать. Хотя казалось бы — зачем толкаться, места всем хватит. Микеланджело терпеть не мог Рафаэля, но они оба великие.
— Да, но финансирования хватит не всем.
— Это другой вопрос. Я тоже сейчас не могу найти денег на свои кинопроекты. Серьезное кино никому не нужно. Но люди не виноваты в том, что они лишены возможности видеть хорошие картины. Кинематографисты не виноваты, что их ленты не доходят до русского зрителя. Виновата власть, ибо она не понимает, что публику надо воспитывать. У зрителя должна быть возможность не пойти на американское кино, а у него нет выбора. Наша власть безответственно относится к тому, что не является материально ощутимыми вещами. А духовную деградацию нельзя измерить в деньгах или прибыли. Вред, который современный прокат наносит нашей нации, я называю «coca-колонизацией» — это мой термин.
— Зачем же власти воспитывать людей, если гораздо проще иметь дело с серой массой?
— Это наивная левая иллюзия. Я думаю, что Фидель Кастро был бы счастлив иметь дело не с бывшими рабами, а с цивилизованными людьми. Недаром он сказал: «Если б я жил в Англии, я бы тоже был консерватором». Любая власть очень хотела бы опираться на народ — в этом залог ее прочности. Но опираться на народ в России невозможно. Наш народ ничего не хочет знать о власти, он только жалуется: дороги не чинят, воруют. А заставить власть заниматься делом народу в голову не приходит.
— Ну, сейчас как раз предпринимаются попытки построить гражданское общество: вот только что прошли выборы в координационный совет оппозиции.
— Это все замечательные и важные вещи. Но не надо тешить себя иллюзиями. Для построения гражданского общества должен вырасти значительный слой граждан — 20–30%. В ином случае для революционных преобразований, а я рассматриваю изменения менталитета как революционные, необходима волевая диктатура, фаланга, орден революционеров. Петр Первый был наделен абсолютной властью, но и его попытки вырвать Россию из тисков азиатчины и повернуть ее лицом к Западу встречали колоссальное сопротивление.
Но сегодня любой мыслящий человек от Суркова и до Удальцова, будучи поставлен в определенные условия, способен стать новым Петром. К этой ситуации может привести дезинтеграция государства. Если цены на нефть упадут и невозможно будет поддувать воздух в этот надутый теннисный корт — крыша просто провалится. И придется принимать экстренные меры. Вот тут должен появиться наш Ататюрк, Пиночет, Ли Куан Ю. Сейчас мои читатели скажут: ну вот, Кончаловский призывает к фашизму. Нет, я говорю, что авторитарная власть спасет страну от большевизма, а значит, от кровавого страшного режима.
— А тоталитаризм в принципе совместим с европейскими ценностями, за которые вы ратуете?
— В Европе сейчас тоже не все гладко. У них уже Брейвик появился. Там диктатура политической корректности и фальшивой либеральной философии привела к тому, что Европа рискует потерять свою самоидентификацию и стать огромной мусульманской империей.
— А у вас-то какая позиция?
— Лично у меня нет гражданской позиции. Я художник, я не с правыми и не с левыми. Иногда бываю реакционером, иногда либералом. Я не ангажирован, поэтому меня критикуют все, кому не лень — и справа, и слева.
— Вы тоже считаете, что художники и режиссеры не должны заниматься политикой?
— Почему не должны? Я сам не занимаюсь политическим театром, но не считаю, что это плохо. Замечательные вещи в этом роде делал Брехт.
— Ну, а после Брехта, в современном театре?
— Современный театр я не смотрю, как и кино. Мне достаточно читать книжки, которые сделали меня лучше лет 50 назад. Жалко времени. Я смотрю то, что уже имеет какую-то рекомендацию.
— Вернемся к «Трем сестрам». Больше всего там удивляет образ Вершинина, который у вас превратился в противного резонера. Масла в огонь подлил и Александр Домогаров, рассказавший, как все его актерское существо противилось такому рисунку роли.
— Знаете, у нас укоренилась глубоко ошибочная традиция — воспринимать текст как руководство к действию, а слова и мысли персонажа приравнивать к авторским. Но, на мой взгляд, у Чехова все сложнее, иногда он вкладывает в уста героя свою точку зрения, а иногда просто создает некий характер. И дистанция между ним и автором может быть очень большой. Вот Вершинин, он живет с женой, которая все время травится. Ведь это комическая черта. Если б она хотела отравиться по-настоящему, то давно бы это сделала. А так, «попугать» — это фарс. Так что Вершинин для меня персонаж не героический, а, как бы сказать, не очень солидный. Просто все привыкли к определенным лекалам, а мне интересно что-то найти новое вместо стереотипа. Это можно делать по-разному. Можно осовременивать пьесу или подгонять ее под себя. А можно, не изменив ни слова, просто найти другой ракурс.
— Ну да, сегодня все эти вершининские монологи о прекрасном будущем звучат совершенной демагогией. И как-то странно играть это «на голубом глазу».
— Да и с самого начала было странно. Я сомневаюсь, что Чехов верил в эту риторику: «Через сто лет таких, как вы, в городе будет большинство, и все будет по-вашему». Не думаю, что Антон Павлович был таким идеалистом. Он прекрасно знал темную русскую провинцию, очень трезво относился к царской России. И когда я ставлю его пьесы, всегда оглядываюсь через плечо, а там, в полумраке блестит ироничное пенсне.
— Но когда вы в 1970-м снимали «Дядю Ваню» с великолепным Смоктуновским, Бондарчуком, Мирошниченко, там не было ни грамма сарказма. Это были прекрасные, благородные люди, а сегодня они у вас иронически принижены.
— Конечно, за это время многое изменилось, и мое отношение к чеховским героям тоже. Но они у меня не принижены, а дегероизированы. У Чехова нет героев. Герой — это человек, который имеет высокие цели, а также возможности и право на их осуществление. А если человек без основания мнит себя гением и, как дядя Ваня, кричит, что «из меня бы вышел Шопенгауэр и Достоевский», значит, у него крыша съехала.
— В вашем спектакле наверное единственный адекватный человек — это Чебутыкин в исполнении Владаса Багдонаса. Он здесь выглядит носителем какого-то тайного знания. Но какого? Что всё суета сует? «Одним бароном больше, одним меньше — какая разница?»
— Да, можно сказать, что Чебутыкин — это главный персонаж. Он выражает мысли удивительно экзистенциальные, совпадающие с философией релятивизма: «все равно», «никто ничего не знает», «а может, меня и не существует вовсе». Ведь Чехов давно предположил: «а может быть, вся вселенная помещается в гнилом зубе какого-то чудовища».