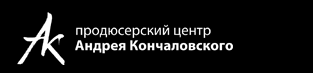Кризис искусства западной цивилизации
Интервью с Андреем Кончаловским в программе «Дифирамб»
Тема: Кризис искусства западной цивилизации.
Ксения Ларина: Ну, что, начинаем мы наш «Дифирамб», хотя ругается на меня наш Ксения Ларина: Ну, что, начинаем мы наш «Дифирамб», хотя ругается на меня наш гость. Не ругайтесь на меня, я придумала, Андрей Сергеевич.
Андрей Кончаловский: А почему же не ругаться, я ругаюсь на людей, которых я уважаю.
Это правильно.
Которых я не уважаю, я с ними не ругаюсь, я просто киваю головой.
У нас в гостях сегодня Андрей Сергеевич Кончаловский – режиссер, писатель, гражданин. Андрей Сергеевич, я хочу сегодня воспользоваться вообще-то вопросами наших слушателей, которые мы собирали до начала программы на нашем Интернет-сайте. Мне кажется, что вопросы очень интересные. И нет мне вообще нужды самой проявлять какую-то инициативу, вам вопросы задавать. Просто когда вопросы хорошие. Вот первый, я его специально хотела с него начать: «Андрей Сергеевич, - пишет нам Ирина, - почему искусство процветает в тоталитарных режимах и умирает при демократии? Самые лучшие фильмы, спектакли и книги созданы при советской власти. А сегодня сплошная общедоступность, то есть желтизна».
Ну, мы находимся просто в другом витке исторического развития человечества. И мы пока этого еще не поняли, как всегда. Обычно понимаешь это, когда уже прошло. И, скажем, как мы плакали, слыша колокола на Исаакиевском соборе, как мы плакали, видя Михаила Сергеевича Горбачева – я, например, плакал, в Америке был, – когда он говорил о прекрасных словах «перестройка», «гласность» и так далее, не понимая, еще не зная, чем все это обернется. Это естественный человеческий процесс, поэтому мы просто еще так же не знаем, что сегодня мир входит в очень серьезный конфликт между цивилизацией и гуманизмом, между человечеством и человеком. Чем больше памяти в информационной, так сказать, кладовой человечества, тем короче память индивидуальности. И с этой точки зрения можно было бы сказать, что вообще искусство западное – а мы изо всех сил стараемся быть западным искусством – переживает кризис очень крупный. Кризис личностный, кризис художественный. Мы об этом можем поговорить...
А это связано, простите, с наличием или отсутствием свободы?
Нет, это связано с абсолютным доступом к любой информации. Информационный взрыв. Есть такой хороший философ и социолог Михаил Эпштейн, который как раз писал о той информационной травме, которая происходит сегодня с человечеством. И с этой точки зрения мы ничуть не хуже других. У нас тоже появилась абсолютная доступность к любой информации, у нас появился рынок, и этот самый рынок, собственно, – я вот написал об этом статью большую, что, собственно, западная цивилизация переживает кризис, потому что произошла подмена художественных ценностей рыночной стоимостью. Сегодня все, что дорого продается, считается художественной ценностью. И это как раз главная проблема. Мы просто на этом витке попали вот в такую ситуацию, когда впервые испытываем тот же самый кризис и вульгарность рынка. Что касается тоталитарных режимов, не обязательно... царский режим не был тоталитарным режимом. В нем была относительно – особенно, в конце XIX века – была относительно, была свободно...
Ну, Пушкин-то в несвободе писал, и вообще не был...
Да мало ли кто в несвободе писал. Данте тоже писал в несвободе, или, там, Сервантес, но Тургенев или, даже можно сказать, Толстой, Достоевский, Чехов – они писали в относительной свободе. Но должна цензура – это не значит несвобода – цензура должна быть, на мой взгляд, в любом случае, в любой стране цензура должна быть, мы вынуждены будем к этому прийти. Но просто поэтому, мне кажется, что вот такой вывод, что тоталитарный режим дает обязательно произведения искусства, я должен вам сказать, что, скажем, Германия фашистская не произвела большого количества, хотя там были очень серьезные архитектурные достижения во времена Гитлера, но все писатели уехали, все режиссеры уехали, все артисты практически уехали, осталась там Фуртвенглер – замечательный дирижер и Караян. Вообще, музыка, она настолько абстрактная, не знаешь, за кого ты там дирижируешь – против или за. И поэтому с этой точки зрения Шостакович мог писать свои симфонии при Сталине, хотя они были как бы продиктованы совсем другими чувствами. Поэтому, мне кажется, так нельзя ставить вопрос. Другой вопрос, что свобода не гарантирует произведений искусства. Вообще свободный человек – даже мы не знаем, что это такое, потому что мы никогда не испытывали свободы в России и вряд ли еще в ближайшее время испытаем, потому что в ней потребности нет, кроме как у интеллигенции и у людей, которые слушают «Эхо Москвы», там, и радиостанцию «Свобода».
То есть, возвращаясь к вопросу нашей слушательницы, вы считаете, что сегодня такой общий кризис мы наблюдаем во всем мире.
Не во всем мире – в западной цивилизации. Если вы посмотрите на Китай – великую цивилизацию, которой 7 тысяч лет, и которая существует дольше, чем любая цивилизация на Земле, на индийскую цивилизацию, на мусульманскую цивилизацию – можно назвать от Индонезии до Марокко, там не наблюдается этого кризиса. Кризис наблюдается в западной цивилизации в связи с тем, что потеряны главные ценности человечества. Опыт человечества очень важен. Недаром китайцы, индусы и мусульмане очень держатся за свои традиции. Они же связаны с вековыми традициями сотен предыдущих многих, сотен поколений. И эта связь, она не может быть разорвана, они никогда ее не разорвут, во всяком случае, потому что они очень устойчивы. В европейской культуре разрыв произошел в начале прошлого века, сознательный разрыв с традициями. Начали это, конечно, наши любимые классики, начиная от Малевича и Маяковского, и выбросили, понимаете, за борт истории всю эту рухлядь. Помните – «и мраморная слизь», и прочие наслаждения – главное было избавиться от этого всего, только не знали, чего строить. И этот разрыв, конечно, он усилился особенно после войны, когда начался постмодернизм. То есть вот... Александр Исаевич написал великую статью 20 лет назад, я редко говорю слово «великая». Действительно это была одна из крупнейших его статей, которая была очень прозорлива, потому что он написал, что погоня за новизной губит европейскую культуру. И вот разрыв, сознательный разрыв с традицией, потирание этого разрыва, грубо говоря, даже наслаждение, что мы вот совсем все будем прикольно делать, оно и сейчас существует. Особенно в России тоже начинает расцветать этот разрыв с традицией.
А вот то, что касается расширения границ, это касается стирания всяческих границ, стремление к объединению. Сделать такую общую общеевропейскую цивилизацию, да? Ну, я даже более конкретный приведу пример – исчезновение денежных единиц каждой страны, за которые так держались очень многие: и французы, и немцы, - но все-таки, нет, пусть будет вот одно евро. Вот здесь вот нет опасности?
Вы сейчас говорите, в общем-то, о небольшой фракции человечества.
Европа?
Вы говорите о Западной Европе, «золотой миллиард». А ведь на Земле 6 миллиардов человек. И из этих 6 миллиардов, один человек из шести живет, ну, кое-как приблизительно, относительно в цивилизованных условиях. И мы над этим просто не задумываемся, имеет ли смысл стирание границ, большая деревня. Это иллюзии, это вот была такая знаменитая Франкфуртская школа, которая была очень левая, но одновременно с этим очень либеральная, и они говорили о том, что надо все смешать вместе, перемешать, что получится? Вот перемешали. Ну, дело не в деньгах, дело в культурных основаниях. Европа имеет одно культурное основание – это христианская цивилизация. В принципе. Хотя разрыв, скажем, между протестантизмом и ортодоксальной русской религией неизмеримо больше, чем разрыв между православием и мусульманством. Разрыв – достаточно переехать границу Эстонии, чтобы понять, что они живут в другом времени и в другой эпохе. Это культурологический, так сказать, процесс. Я тут уповаю на то, что Россия, в общем-то, слава Богу догнала Запад ментально. И наша отсталость с точки зрения некоторых, особенно либеральных, кругов, она спасет во многом...
...сохранит...
...сохранит в России отношение ко времени не как к...
«Скажите, пожалуйста, - спрашивает вас Ирина Куприянова, - считаете ли вы этичным, нормальным писать и публиковать произведения, снимать фильмы, которые затрагивают религиозные основы? Большинство людей не может с этим согласиться – с нетрадиционной трактовкой известных, но спорных истин. А вы?»
Ну, на эту тему были созданы великие произведения. И с точки зрения нарушения канона, все зависит от того, как относиться к канону – даже Андрей Рублев нарушил канон, который Феофан Грек, предположим, устанавливал. И были старообрядцы, и до сих пор есть старообрядцы, которые до сих пор не принимают как ересь даже православие. С точки зрения посвященного религиозным идеям, много было замечательного. Роман греческого писателя, который назывался «Последнее искушение Христа». Религиозные произведения ну, знаменитые... Я просто так первое вспомнил, что приходит сразу. Но дело в том, что оскорблять это не может. Я думаю, что оскорбляет чувства верующих желание спровоцировать, вообще-то, в современном том, что называется искусством, хотя я не считаю это искусством вообще.
Ну, вот выставка знаменитая, которая у нас сейчас уже подверглась судебному разбирательству – это провокация, с вашей точки зрения?
Безусловно, конечно. Ведь художественная ценность... вот я бы написал на Энди Уорхоле, на всем – стоит 7 миллионов, художественной ценности не имеет. Или, там, даже на «Черном квадрате» Малевича. Я гарантирую, то есть я, например, могу доказать, что это не произведение искусства. Хотя это произведение очень умного человека.
Ну, это манифест.
Очень умного человека, но это не произведение искусства. Просто потому что произведение искусства, оно имеет определенные качества, о которых мы все знаем. Я уже не говорю о высоком идеале, потому что высокий идеал – это часть искусства. Если вы возьмете великое, искусство всегда связано с идеалом. Не с разрушением, а с наличием этого идеала. И, безусловно, оно связано с большим мастерством, я уже не говорю о таланте, но мастерство это значит что такое? Долго, долго, долго надо ковыряться, учиться, учиться и учиться. Потом вы научились наконец что-то делать. А «Черный квадрат» - учиться вовсе не надо. Так же, как Энди Уорхол.
Надо же додуматься до этого.
А я разве говорю, что он не умный? Он умный. Но он не художник. Так же, как Энди Уорхол – не художник. Он очень талантлив...
Креативщик.
Он – креативщик, он – провокатор. Эта провокация пошла еще дальше. Вот она на выставке...
У нас сейчас перерыв на новости. Потом продолжим разговор. Напомню, что у нас в студии Андрей Кончаловский, который будет отвечать на ваши вопросы, а не на мои.
К.Ларина: Андрей Кончаловский в нашей студии. Много очень вопросов. Они все разные: и про кино, и про театр, и про политику, и про будущее, и про прошлое, и про личное. Вопрос: «Кто ваша следующая жена?» - очень смешной пришел от нашего слушателя. Не знаю, какая следующая, мне очень нравится настоящая. Хорошая жена, и артистка, по-моему, ничего. Хорошая артистка Юлия Высоцкая?
Если бы она не была хорошей артисткой, я очень жестокий режиссер, я бы не ставил с ней второго спектакля.
Ну, вот давайте про спектакль скажем, потому что здесь есть вопросы. Спектакль, который поставил Андрей Сергеевич Кончаловский, это Стриндберг «Фрекен Жюли», он у вас называется по-другому?
«Мисс Жюли».
«Мисс Жюли», да? На сцене театра на Малой Бронной. И здесь есть вопрос от нашего слушателя, почему вы выбрали именно этот театр?
Потому что этот театр дал мне возможность ставить спектакль. Просто мы сделали совместную постановку. И, естественно, у нас были спонсоры – «Медиаком» и Куснирович, и это спектакль, в котором...
А вы уже ставили его где-нибудь?
Нет, Стриндберга я еще нигде не ставил. Я наслаждаюсь в данный момент, когда его ставлю.
Почему взяли?
Ну, вы знаете, не так много ведь великих писателей...
...драматургов...
...драматургов, которых надо ставить бесконечно, учиться и проваливаться. Но провалов больше, чем успехов, как правило, у больших драматургов – Чехов, Стриндберг, Ибсен, Шекспир, Эсхил, Эврипид, потому что это самое трудное.
Его, кстати, очень любят и хорошо знают, естественно, творческие люди, что мы называем интеллигенцией, и он совсем не известен в народе, Стриндберг. Если Чехов или Ибсен еще куда ни шло, то Стриндберга вообще не знают.
Ну, я не знаю, что в народе знают. Я думаю, что в народе и Чехова знают по имени.
Но Стриндберга и по имени не знают.
У Стриндберга, да, сложная фамилия. Но Стриндберга очень сложно ставить. И я уверяю вас, что она появляется как где-то, всегда где-то идет что-то, но никто не смотрит, потому что очень сложно ставить. Это очень трудная пьеса. И я думаю, что Стриндберг вообще труднее Чехова, потому что Стриндберг был сумасшедший, безусловно, человек. Когда я говорю «сумасшедший», не значит, что он не мог высказать свои мысли. Он был настолько нервным и восприимчивым, и фантазером, и это все похоже на сновидение. Его драматургия вся похожа на сновидения. Особенно – это еще самая простая пьеса – а если взять его, понимаете, «Соната привидений» - это вообще черт ногу сломит. Это очень сложно ставить. Но, тем не менее, в нем есть то, что... – почему так Чехова привлекал Стриндберг? Ведь недаром... Чехов под влиянием Стриндберга находился. Я бы даже сказал, что Нина Заречная, этот характер, была написана под влиянием «Мисс Жюли».
То есть у вас получается такая связка – вот вы сейчас сами об этом рассказываете?
Само получилось.
«Чайка» Чеховская и вот Стриндберг.
Так Юля, я считаю просто, что Юля сыграла, то, что Юле удалось в «Чайке», значит, можно с ней ставить и более тяжелые вещи, как, скажем, «Мисс Жюли» или «Антигону», или «Леди Макбет». Это такие, уже очень высокого напряжения требующие какого-то с одной стороны, дикой выносливости просто физической и нервной, а с другой стороны, мастерства, потому что просто на эмоциях не выедешь.
А сегодня у нас 5 марта, я не могу вас не спросить об отношении к этому человеку. День смерти Сталина сегодня. И вот у нас последние опросы, которые были озвучены в новостях, они для меня, честно говоря, неудивительны, потому что мы тут сами «Рикошет» проводили на «Эхе Москвы», и уж наша аудитория тоже достаточно активна политически, уж такая вроде бы как демократически мыслящая, свободолюбивая, но тем не менее, я помню вот опрос про отношение к Сталину. Ну, процентов, наверное, 40, даже наших слушателей вполне одобрительно относятся к этой личности, к этой фигуре. А вот по последним опросам ВЦИОМовским, треть россиян хотела бы, чтобы нашей страной управлял вот человек типа Сталина. Как вы думаете, почему? Откуда это такая любовь и надежда? Это же не абстрактная сильная рука, это конкретный человек.
Для большинства россиян это абстрактная фигура уже.
Думаете?
Конечно. Ну, кто остался, люди, которые жили при Сталине, им сейчас 70, 80, 90 лет, так сказать, в общем-то. Молодые знают просто имя Сталина. Для них это может быть привлекательно так же, как для многих французов Че Гевара. Они не знали, что это такое. Они не знают и сегодня. Я думаю, что потребность в сильной руке – это интуитивная вещь в России. Вы знаете, Россия же это длинная история, я бы сказал... Это длинная история. Если просто говорить, очень просто...
Просто.
В России никогда не было буржуазии. Никогда. Это иллюзия, потому что потребительская корзина – это не признак буржуазии. Признак буржуазии – это образ мышления. А что такое буржуазия? Это независимость от власти.
Какая прелесть. Как все просто.
А независимость от власти когда возникла? В XIV веке, когда люди научились ткать золотом, ковать гвозди...
А Чаадаев?
Что?
Чаадаев, разве он не был свободен от власти?
За это он и сидел в сумасшедшем доме. Понимаете, речь идет все-таки об обществе, о нации, об огромной, великой нации, у которой своя история. И эта история говорит о том, что у нас не было буржуазии. А отсюда не возникло гражданское общество. Ведь гражданское общество возникало где? В гильдиях, в средневековых городах. Там, в средневековых городах зарождались зачатки правосознания. В России были поселения – стоял князь с дружиной и холопы. Поскольку...
Сейчас так и осталось.
Поскольку Россия никогда... Ну, естественно, поэтому ругаться бессмысленно, об этом говорить, как это бессмысленно. Есть как бы... я как прагматик предпочитаю выбирать между возможным и невозможным, чем между желательным и нежелательным.
То есть это все утопия? Никогда не будет у нас общества настоящего, гражданского?
Почему никогда. Во-первых, что значит настоящее. У нас настоящее общество, оно просто не гражданское. Спросили бы у Медичи, у нас никогда не будет? Во времена Медичи тоже не было гражданского общества. Мы просто живем в другом веке. Не надо расстраиваться. Тут ничего плохого нет. Это ошибка большая, думать, что обязательно, обязательно... Вы знаете, был такой большой писатель Олдос Хаксли. Он сказал, что если Европа катится к пропасти в «роллс-ройсе», то Россия едет в трамвае. Поскольку трамвай медленнее «роллс-ройса», мы тогда, надеюсь, до пропасти не добредем. А многие проблемы, которые ожидают в ближайшее время мир – мы даже не представляем себе. Но умные головы об этом уже говорят – и о климатической катастрофе, которая близка. Я думаю, что в течение 10 или 15 лет Россия станет одно из самых желанных мест. Не потому что здесь будет свободное общество или гражданское. Это иллюзия. Для того, чтобы возникло гражданское общества, нужны, как говорил мой учитель Плеханов, исторические предпосылки. Вот Ленин не послушался Плеханова, как и Сталин. Плеханов про Ленина хорошо сказал: «Это был мой ученик, талантливый ученик, который у меня ничему не научился». Как раз и терпение Ленина, и желание Ленина построить свободное демократическое общество привело к катастрофе, о которой марксисты его предупреждали. А теперь вернемся к Сталину.
Подождите, вот когда он умер, в 1953-ем году, сколько вам было лет?
Мне было 16.
Плакали?
Конечно. Ну, а как же не плакать? Естественно, плакал. Но я относился к этому достаточно безответственно. 16-летний оболтус, о чем вы? Я был тогда в музыкальной школе, у нас там Коля Капустин – мой сокурсник - начал вдруг играть буги-вуги. Ну, мы тогда так мало соображали. И его чуть не исключили из училища музыкального. Если говорить о роли Сталина, можно сказать одно. Сталин был, на мой взгляд, бесконечно... он был аскет, понимаете? Он не думал о своей личной жизни. Он думал о своей личной власти во имя ленинских идей. По идее, он был больший ленинец, чем Ленин. Он просто принципиально шел по созданию социализма, как он его видел. А социализм, как он его видел, считалось, что плохие люди должны быть все за решеткой, а хорошие люди должны находиться – так называемые хорошие люди – по эту сторону решетки. Он разделил. И в то время, конечно, предпосылок для создания социализма не было. А в Швеции он был. И в Швеции сегодня можно назвать социализмом, потому что огромное количество социальных благ дает государство. А в России до сих пор быть не может, потому что пока не возникло исторических предпосылок. Поэтому, на мой взгляд, сильная рука – это не обязательно подавитель свобод, душитель, узурпатор. Сильная рука, если возьмете Ататюрка, если возьмете даже того же Алиева, если возьмете Тито, это были все ленинцы. Но они сделали колоссально для своих стран, колоссально много. Почему? Потому что сознание этой нации пока еще нуждается в сильной руке. Но сильная рука может говорить о многом. Сильная рука может говорить о том, что в нации надо создавать предпосылки для возникновения правового общества.
Но ведь кроме руки должен быть еще и ум такого масштаба.
Ну, а как же, конечно. Должно быть видение. Вы знаете, в России достаточное количество умных людей, которые не лезут с советами. Вот советы, очень много советов дают, а советов невозможно. Все знают, как построить – и левые, и правые, и либералы, и консерваторы – все знают, как построить это счастливое общество.
Вот когда учат играть в шахматы, все время говорят: «Научись чувствовать масштаб доски. Учитывай всю доску. Следи за всей доской, а не за конкретной фигурой, которую ты передвигаешь». Вот я просто почему об этом вспомнила, аналогия у меня родилась с масштабами России. Вот есть на сегодняшний день, как вам кажется, люди, политики, действующие или отставные, или будущие, которые способны мыслить в масштабах такой огромной страны?
Я думаю, что Путин – такой политик. Не политик – мыслитель. Он не мыслитель даже. У него не хватает опыта. Но он интуитивно чувствует, что... у него другого выхода нет. Я вот признаюсь вам, что я, к сожалению, должен согласиться с тем, что назначение губернаторов, на мой взгляд, лучше, чем избирать их по простой причине. Ведь избираемый губернатор – его нельзя снять. Выбирают его десятки, сотни, триллионы людей, которые потом не принимают никакого участия, никакого участия в его правлении.
Так это так и так они не принимают участия.
Так, а, стоп. Ну, разница в том, что этого можно снять, а того снять нельзя. Ведь демократия – это не просто свободный выбор...
Это процедура.
Нет, нет. Демократия – это когда большинство потом контролирует избираемые меньшинства. Если вы возьмете Францию, если вы возьмете страны, где была исторически развитая буржуазия, правовые общества, там же одно правительство, ему достаточно сделать одну ошибку – вся страна останавливается. Останавливается страна. В Вашингтоне 3 миллиона приходит в один день, понимаете, к Белому дому. То же самое во Франции, то же самое в Италии.
У нас тут все-таки какие-то проклевываются... чувства.
Да, нет, ну, что вы.
Вот сегодня забастовка водителей «Газелей».
Да нет, ну, ребята, ну, не надо наивно думать...
Вот протесты против монетизации льгот.
Да это тоже, это все ведь иллюзии. Тут нет ведь абсолютно никакого единства. Потому что русский народ на сегодняшний день еще никогда не был буржуазным. Все-таки мы крестьяне. Вы – крестьянка и я – крестьянин.
...
Так нет, мы разрозненные. Когда бастуют шахтеры, учителя жалуются, что холодно. Когда бастуют учителя, шахтеры жалуются, почему школы закрыты, детей некуда девать. Почему? Низкий уровень, что называется, самоидентификации с другими.
А Украина?
Что?
Это то самое, о чем стоит мечтать? «Разом мы богаты, нас не подалаты»
Ой. Подождите полгода.
Вон сколько людей вышло.
Подождите полгода. У нас тоже много вышло в 1993-ем году. Дело же не в том, сколько вышло. Дело же в том, что потом надо идти не домой, а следить за тем, что правительство делает. Следить. Ведь в том-то все и дело, что когда губернатора избирали, то потом народ шел домой и ждал, когда будет хорошо. К губернатору приходили люди с цепочками золотыми и говорили, что надо делать, и он очень быстро-быстро-быстро начинал делать то, что нужно определенному классу криминалистической, так сказать, всей нашей структуры. Поэтому...
У нас отношения по-другому выстраиваются с властью. Мы либо любим, либо ненавидим. У нас нет отношений деловых.
Нет, неправда. Мы власть не любим.
Ну как? Мы же влюбляемся. Вот 1991-ый год. Это любовь. Поэтому мы и не следим за тем, что они потом делают.
Одну секундочку. У нас к власти принципиальная нелюбовь. У нас только любят начальника. А это не власть. Власть – это все, что между начальниками и ниже.
Почему?
Власть – это... Всегда поэтому народ терпеть не мог бояр, любил царя. Вот сейчас все министры плохие, а Путин хороший. Он не виноват, он не знает.
Любовь.
Вот к кому? К верху, к единственному, главному. А власть терпеть не могут. Власть терпеть не могут. И но это естественно, потому что нация-то молодая очень, молодая. Что такое тысяча лет? Вот китайцам 7 тысяч, понимаете?
У них тоже там все построено на любви к императору.
Нет, неправда. Абсолютная неправда. У них все построено на обязательствах по отношению к коллективу. Это Конфуций. Это обязательства человека по отношению к предкам и к своему обществу.
Все равно обожествление некое присутствует человека, который возглавляет страну или возглавлял?
Безусловно. Но, тем не менее, самое главное – это уважение, это чувство обязанности. И вот это чувство обязанности – вы знаете, мне рассказывали про китайский завод химический, где стоит огромный чан, наполненный спиртом чистым, нормальный спирт неразведенный. Рабочих 4 тысячи человек. Подходит каждый рабочий и открывает краны, наливает 50 грамм, необходимые для работы, идет и работает. И никто пьяным не валяется. Вот попробуйте открыть такой... И что получится с химическим заводом?
К.Ларина: (смеется)
Это все технология. Другая нация. Других нет. Так надо их любить за то, что они такие. Там есть масса качеств замечательных – терпение, потрясающая доброта, несмотря на то, что страшная может быть, звериная жестокость. Вот для меня, например, я чувствую, что есть национальный позор в стране, никто об этом не думает. А по-настоящему если посмотреть, национальный позор нашей страны – это бездомные дети. Это... Ведь вы вдумайтесь на секунду, ведь нет такой страны на свете, где такое количество... Нет такой страны, где такое количество бездомных детей при живых родителях. Я считаю, что надо расстреливать таких родителей или сажать в тюрьму, понимаете? А мы говорим о каких-то очень высоких идеях свободы, личный выбор, свобода выбора и прочее. Ребят, мы в другом веке.
Давайте я телефон включу, поскольку обещала, Андрей Сергеевич. Очень стремительно как-то время бежит. Пожалуйста, 203-19-22. Андрей Кончаловский здесь в студии, который готов ответить на ваши вопросы, уважаемые слушатели радиостанции «Эхо Москвы». Алле, здравствуйте.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Алле.
К.Ларина: Да, мы слышим вас, говорите, пожалуйста. Только выключите, пожалуйста, радио, поскольку мы плохо понимаем, о чем вы там говорите.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Я уже выключила. Поздравляю вас, Ксения, с праздником, и вас, Андрей, слышать очень приятно. Я хотела спросить, почему все время идет, к сожалению, какое-то навешивание ярлыков? Неужели нельзя чуть-чуть для обучения проявить к чему-то хорошему?
К.ЛАРИНА: Понятно, о чем спросили?
А.Кончаловский: Ну, конечно. Почему ярлыки? Когда вы говорите «ярлыки», я не понимаю, о чем, что вы говорите. Понимаете, мы должны знать себя. Как каждый человек должен себя знать. И мы, к сожалению, всегда думаем о себе, что мы либо лучше, чем мы есть на самом деле, когда глядимся в зеркало с фаса, либо что мы хуже, чем на самом деле. И вот в серединке человек себя реально понимает. Так устроена жизнь.
К.Ларина: Ой, я помню, я впервые в вашей книге об этом прочитала. Я обратила на это внимание.
И мудрость человека – в конце концов понять себя, хотелось бы, чтобы до смерти – просто понял, кто ты такой, на что ты способен, какие твои реальные качества, кого ты по-настоящему можешь и должен любить. То же самое и с нацией. Понимаете, каждая нация должна знать себя, чтобы двигаться куда-то. А уж нашему правительству тем более надо знать нашу нацию. Мы очень часто ведь... а потом сваливаем все на каких-то проворовавшихся плохих людей. Вот хорошего бы назначили сюда, все было бы хорошо. Нет хороших. Все одинаковые. Они все и хорошие, и плохие. И мы с этими качествами. Поэтому по левой стороне, как говорится, в стране с правосторонним движением ехать очень опасно. Надо знать, что вы должны ехать по правой стороне. Поэтому надо знать просто, что мы великая нация, мощная, самая богатая в мире, а люди живут бедно. А вы задумайтесь, почему люди живут бедно. Вы скажете: «Отняли». Да не отняли, не поэтому. Прежде всего потому что люди даже не знают, что они могут быть полезны каким-то способом этому довольно жестокому государству, в которое мы ввалились. Мы ввалились в общество, где люди должны быть нужны. А если не нужен, если не умеешь что-то делать лучше других, то вряд ли сумеешь заработать. Если только ты не классный вор. А что касается призывать к высокому, вы знаете, мы призываем к высокому, начиная, я думаю, с Ломоносова. Все люди призывают к высокому, всем хочется, чтобы было хорошо, у каждого есть рецепт. А вот в реальности, понимаете, потом только понимаешь, что там думали, будет хорошо, получилось не так хорошо. Думали, что свобода, вот пришла свобода в 1991-ом году к русскому народу – к нам ко всем. Воспользовался ли народ, нация этой свободой?
Нет.
Не воспользовалась. Почему? А вот кто-то воспользовался, хапанул будь здоров. Тот, кто не валялся на печи, как говорит Березовский. Но для этого нужно было иметь определенный талант, не совсем, я бы сказал, может быть, высокой морали. Поэтому, знаете, я думаю, что самое главное для нас для всех понять прежде человечество просто. Чем я могу быть лучше других? Вот один может хорошо делать сапоги. А другой – яблоки растить или картошку, я не знаю, что. Но лучше других надо быть. Вот сейчас мы попали в эту ситуацию, когда мы из страны социализма такого вот жуткого, в котором каждый получал свое место...
...пайку...
...пайку и так далее. И все были более или менее счастливы, мы попали в общество, где, во-первых, можно быть несчастным. Вы знаете, когда разрешают быть... Ведь при советской власти несчастным нельзя было быть. Как только ты становился несчастным, ты попадал куда-то – или в сумасшедший дом, либо за границу. Это в лучшем случае.
На выселки.
Сегодня всем можно было стать несчастными, поэтому, конечно, очень много выливается недовольств. Но самая, конечно, большая драма – вот для меня сейчас, конечно, с одной стороны беспризорники, а с другой стороны – что у правительства нет ни ума, ни средств, как ни странно, пропагандистских объяснять, что оно делает. Вот, пожалуйста...
А желание, вы думаете, есть?
Желание, я думаю, есть, но они не понимают. Вот, пожалуйста, монетизация. Монетизация льгот – это правильное решение. Только...
Некоторые сомневаются.
Все сомневались. А почему идут забастовки?
Потому что коряво, как всегда.
Во-вторых, ничего не объяснили. А почему? Первый канал, Второй канал, НТВ – пять каналов, два государственных. Хоть кто-нибудь из них пытался объяснить? Почему? А потому что у государства нет больше рычагов. Телевидение больше не воспитывает. Я тоже писал об этом, кстати. Телевидение не используется правительством, чтобы объяснить свои благие пожелания. Хотя бы благие пожелания. Ладно не получается, но пожелания-то благие. Вот в чем дело. Я понимаю, если бы такое что-то творилось безобразное. Но ведь это очень серьезное, искреннее желание сделать хорошо. А вот не хватает, с одной стороны, культуры, с другой стороны, не хватает идеи.
Давайте еще звоночек послушаем. 203-19-22. Алле, здравствуйте.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Алле, здравствуйте. Очень рада вас слышать, Андрей Сергеевич, всегда с удовольствием слушаю вас, ваши мысли как бальзам на душу. Я просто хочу опять вернуться к теме Сталин и народ, как говорится. Можно?
К.Ларина: Пожалуйста, пожалуйста.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Меня знаете, что интересует – когда Сталина выносили при коммунистах из Мавзолея, и вообще, когда его там положили, и лежал, никто туда не ходил, ни цветочка, не шумели. Все прошло тихо. Сейчас создали какой-то бум вокруг всего вот этого – и тот же Зюганов, и та же компартия. Когда как бы вот нельзя, демократия, просто нельзя этого делать – все сейчас просто стали героями вокруг Сталина. Что произошло вот с людьми?
К.Ларина: Спасибо за вопрос.
А.Кончаловский: Мне кажется, что это просто ностальгия. Ностальгия по чему-то такому, что... нам же всегда кажется, что юность была солнечная и впереди бесконечная жизнь. Только дождик сейчас идет. Ну, к старости, потом начинаешь думать, что она по-прежнему бесконечная, только дождик идет чаще, но солнечное прошлое всегда остается. И для многих, конечно, Сталин в этом смысле – наша гордость и совесть эпохи. Это, конечно, все колоссальная иллюзия, потому что реальности той страшной мы уже, естественно, не знаем и не испытываем. Но главное, что мы не испытываем того страха. И тут, конечно, большая проблема, знаете, и я должен, с грустью так с вами поделюсь, мне кажется, что человек сам по себе не может жить без страха. Как только человек теряет всякий страх, то он становится очень быстро животным. Собственно, государство, оно что делает? Оно ведь человека пытается сделать человеком, чтобы не насиловали на улицах, не били кирпичом по голове, чтобы в подъезд можно было войти...
А у нас насилуют на улице, бьют кирпичом по голове, понимаете, в подъезд войти невозможно.
Потому что нет больше страха.
Средь бела дня расстреливают.
До... при царе Горохе, начиная, был страх Божий, понимаете, потом было Шестое отделение, потом было КГБ, потом была репрессивная система, но этот страх, как ни странно, во многом способствовал тому, что коррупция была гораздо ниже, скажем, при Сталине, коррупция была гораздо, в тысячи раз ниже. Ну, правда, это стоило несколько миллионов расстрелянных людей. Нужно ли нам такое отсутствие коррупции? Нет. Поэтому я говорю, лучше коррупция, но отсутствие такого террора. Но то, что без страха жить нельзя, понимаете, вот если мы возьмем американцев, вы знаете, американцы очень организованные люди. Вы думаете, они не боятся? У них есть... У них в огромном количестве знают, что они боятся...
Уважают законы.
Они боятся закона, и они очень боятся налоговых органов. Самые страшные органы. Гораздо страшнее, чем сталинское КГБ, это американская налоговая инспекция. Она знает про вас все – где вы каждый цент заработали. И любой американец, если ему звонят из налоговой инспекции, у него седеют волосы сразу. Не дай Бог связаться. Поэтому страх, безусловно, необходим. Когда я говорю «страх», я имею в виду страх перед законом. Мы говорим так. Поэтому Сталин был человек, который построил общество, которое было очень далеко от того, что мечтали социал-демократы, о чем мечтали марксисты настоящие. Я, вообще, сторонник в определенном смысле марксизма, только в том смысле, что... есть государства, вы знаете, в которых народы, нации, культуры, где государство должно вмешиваться. Вот в Китае недаром так быстро идет развитие. Потому что это государство, оно работает на развитие всей нации, всей культуры. У нас, к сожалению, развалили государство. Оно сначала слишком много вмешивалось, то есть вмешивалось во времена коммунизма, понимаете, или вот этого коммунистического социализма.
Потому что оно предполагало вечное существование. А сегодняшнее государство, оно какое-то временное.
Ну, вообще, оно должно быть временное, вообще, в нормальном обществе государство должно все время эволюционировать. Но, понимаете, мы попали...
...в западню.
...мы попали в том смысле в западню, потому что мы не Запад, а нас все время из нас делают Запад. Поэтому я с большой осторожностью смотрю на то, что происходит, предположим, на Украине. Я очень надеюсь, что на Украине получится что-то достойное. Но я, например, твердо убежден, что, скажем, иллюзия – построить демократическое общество в Ираке или в Афганистане. Там будет иллюзия. Там все равно будут родовые схватки, так же как это до сих пор продолжается в Чечне. Это то же самое. Это невозможно. Это можно поддерживать только при помощи вооруженных сил либо какой-то авторитарной власти, которая придет изнутри. Не потому что это плохо. Я повторяю, ну, пока еще это естественно для определенных культур. И я не вижу – вот в чем дело – я не вижу в этом ничего такого катастрофического. Я даже предпочитаю, чтобы была естественная страна с естественным строем, чем навязанный строй изнутри, как, скажем, большевики навязали России.
Ну, вот свет в конце туннеля у нас обнаружился в финале нашего разговора политологического. Андрей Кончаловский был нашим гостем. На этом мы, увы, закрываем нашу лавочку. Я прощаюсь с вами до завтра. А с Андреем Сергеевичем до следующей встречи в эфире. Спасибо.