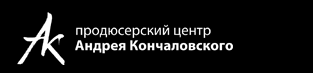Андрей Кончаловский в программе "Дифирамб" в эфире радио ЭХО Москвы
О. Пашина
― Это программа «Дифирамб». И в нашей студии — режиссёр Андрей Кончаловский. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
А. Кончаловский
― Добрый день.
О. Пашина
― Должна сказать, что я только что посмотрела ваш фильм «Рай». Это был ранний утренний сеанс, обычный кинотеатр. Зал был полный. В абсолютной, я бы даже сказала — в такой тяжёлой тишине смотрели люди фильм. Закончилась картина, и никто не бросился — знаете, как это обычно бывает — скорее на выход. Что-то все сидели и думали. Я встала и пошла, потому что мне нужно было прийти сюда, в студию. Просто раз уж об этом я начала говорить, хочу спросить: вы как-то думали, для кого этот фильм, будут ли его смотреть?
А. Кончаловский
― Уже последние несколько лет я не думаю, для кого. Я делаю для себя. То есть для себя в каком смысле? Ну, когда пишешь роман — то же самое. Человек берёт карандаш, бумагу и пишет. Но если думаешь о том, кто будет смотреть, — это другой как бы жанр. Он тоже существует и должен существовать. Но мне кажется, что сейчас мне нужно истратить время, которое мне отпущено, и попробовать разобраться как бы в собственных представлениях. Если это кому-то интересно — я только счастлив.
О. Пашина
― Я бы, честно говоря, показывала этот фильм в школах, но нельзя, потому что там ограничение 16+. И я объясню почему. Мы несколько дней назад говорили с Аллой Гербер. 27 января — День памяти жертв Холокоста. И вот мы обсуждали вопрос: как рассказывать людям, в частности детям, школьникам, об этом? Потому что уже есть такая в обществе усталость от этой темы. Как только звучат слова «Вторая мировая война», «фашизм», «Холокост», люди говорят: «Мы устали. Мы всё знаем об этом. Это всё страшно, всё это ужасно, но не хотим. Всё, мы в курсе. Не надо об этом говорить».
И Алла Ефремовна сказала удивительную вещь, я просто хочу её процитировать. Она говорит: «А не надо говорить о Холокосте. Надо говорить людям о них самих: что мы знаем о себе, на что мы способны. Мы сейчас тоже вооружены ненавистью и зомбированные, а это один из тех самых страшных примеров, когда люди достигали вот этой глубины человеческой низости. И говорить нужно скорее не об исторических каких-то событиях, не о фактах, страшных каких-то картинах, а о том, что люди знают о себе». Мне кажется, и фильм собственно об этом.
А. Кончаловский
― Ну, я не совсем согласен с Аллой. И знаете почему? Мы живём в очень такое сложное для человечества время, для человеческой цивилизации, в очень сложное время. Почему оно сложное? Оно сложное, потому что то, что называется сегодня «средства массовой информации», 100 лет назад не существовало. И не существовало колоссального объёма информации каждый день, выбрасываемого в эфир, в газеты, на телевидение. И это колоссальное количество информации — оно служит кому-то.
О. Пашина
― Безусловно, да.
А. Кончаловский
― Поэтому, когда мы думаем о том, кому оно служит... Помните, был такой (вы, наверное, знаете) Зиновьев, замечательный... Александр Александрович Зиновьев, социолог, замечательный человек. Он написал, что сейчас наступает время супергосударств. А что такое супергосударства? Супергосударства — где кончается иллюзия, что есть разделение властей: ну, исполнительная, законодательная... Ничего этого нет, а есть одна власть, которая соединяет в себе деньги, политическую власть и прессу. Это иллюзия, что существует сегодня это разделение. Пресса в основном, безусловно, служит идеологии того, кто у власти.
И здесь, конечно, возникает огромная опасность — любые манипуляции, во-первых, читателем, манипуляции целой нацией. Во-вторых, в руках у прессы оказываются, грубо говоря, свежие мозги, уже не говоря о молодых людях. Что это значит? Это значит, что, в общем, в огромном обилии очень сложно разобраться, что есть правда, а что нет, неправда. И тут как раз возникает очень важная парадигма. Вы знаете, истина — она всегда борется с ложью, вечно. Это вечная борьба. И довольно часто ложь побеждает. А как она побеждает?
О. Пашина
― Она красивая, она привлекательная.
А. Кончаловский
― Она бывает красивая, она бывает необходимая. Здесь уже возникает много разных... И ведь борьба с истиной... Ну, что такое «истина про Холокост»? Ведь когда мы говорим о Холокосте: «Нам это надоело», — а люди не задумываются о том, что это такое? Ведь Холокост — это политическое решение государства уничтожить определённую национальность. Определённая национальность — евреев. Сначала их ведь хотели... Я изучал это. Сначала их хотели отправить всех на Мадагаскар.
О. Пашина
― Да. Веймарская конференция — там же обсуждались все эти вопросы.
А. Кончаловский
― Но оказалось, что это сложно сделать. Во-первых, потому что часть еврейского народа живёт... жила не в Германии, не на оккупированных территориях. Во всяком случае, решено было, что физически уничтожить. То есть «физически уничтожить» — это ведь такая фраза, которая... Просто задуматься сложно, что такое «всех уничтожить физически». Возникает целая — по-немецки аккуратная — машина уничтожения людей. И меня как раз это очень и волновало, и я хотел показать. Меня интересовала вот эта бюрократия уничтожения людей, бюрократия уничтожения: машины, бульдозеры... Когда вы начинаете об этом думать и рассказывать это детям вот так, то они не поймут, что такое Холокост. Они не поймут.
Мало того, ведь вы понимаете, это же было решение принято одним из самых выдающихся государств в мире по культуре. Мощнейшая культура! Государство, где был Бах, Моцарт, Бетховен, Шопенгауэр, Гёте — вообще великая культура! То есть это государство, которое является одним из основных, краеугольных камней европейской культуры. И оно принимает такое решение! Что же это значит? Вот если мы задумаемся, что это значит, то мы поймём, что такое решение, которое можно назвать с точки зрения гуманизма «варварство», что варварство — необязательно принадлежность древнего необразованного человека.
О. Пашина
― А может быть, это безумие?
А. Кончаловский
― Нет, это не безумие. Это сознательное решение.
О. Пашина
― Я понимаю, что я под впечатлением, но когда я смотрела этот фильм... Вот этот мальчик, этот Хельмут, который любит Толстого, любит Брамса, любит Чехова, и он не подлец, он не подонок, он где-то местами альтруист. У меня было огромное желание... Вот я смотрела на экран — и я воспринимала как живого человека. Мне хотелось ему дать пощёчину и крикнуть: «Да что ты делаешь?!»
А. Кончаловский
― Конечно.
О. Пашина
― «Да что ж ты творишь?!» И вот они все такие были — участники этой Веймарской конференции, которые обсуждали, убивать ли младенцев: «Нет, ну конечно, надо их убивать, потому что они потом вырастут и станут взрослыми евреями. Да, это практично».
А. Кончаловский
― Но когда мы задумываемся об этом... Мы вообще не задумываемся о том... Мы же говорим как сейчас? «Ну, это невозможно, этого не должно быть». Но это может повториться.
Мало того, знаете, такой есть философ английский Джон Грэй, который очень глубоко заметил, что цивилизация — она развивается по спирали, мы знаем, так сказать, но аккумулятивной есть только наука, этика не аккумулятивная, этика может рухнуть в один прекрасный момент, даже сейчас. И сейчас может появиться абсолютно нацистское государство. Оно будет появляться в другой форме, будем говорить «давайте уничтожать этих» или «давайте посадим всех мусульман», это не важно как.
О. Пашина
― Объект не важен, да.
А. Кончаловский
― И получается, что современное варварство абсолютно возможно. Достаточно посмотреть документы WikiLeaks о том, что происходило в Ираке, в тюрьме Абу-Грейб, чтобы понять, что варварство каждую секунду может вернуться.
И поэтому... Ведь почему я не согласен с Аллой? Потому что надо говорить об этом буквально, объяснять людям, что такое. И почему, вы знаете... Ведь, в общем-то, идёт война — идёт война с истиной. А как лучше всего бороться с истиной? Бороться с памятью.
О. Пашина
― Забыть.
А. Кончаловский
― Убить истину можно борьбой с памятью. И вот здесь мне приходит... Я напомнить вам хочу, такой был прекрасный философ... Вы меня извините, что я так долго говорю.
О. Пашина
― Так мы собственно и собрались, чтобы об этом поговорить.
А. Кончаловский
― Умберто Эко — замечательный философ, автор прекрасных романов, «Во имя Розы». Он недавно скончался. И написал два известных письма (одно — своему сыну, и через десять лет — своему внуку) относительно того, что Интернет — это трагедия человеческого разума, Интернет укорачивает память. Он говорил о том, что «вы не хотите теперь ничего запоминать, потому что всё есть в Интернете».
О. Пашина
― Потому что всё можно найти, да.
А. Кончаловский
― «А ведь когда вы не запоминаете, у вас нет этического опыта». Он потом написал своему внуку ещё более пронзительное письмо о том, что «если ты не будешь знать, что было в сорок пятом, что было две тысячи лет назад, то ты не будешь понимать, что такое история человечества».
Поэтому в этом смысле я говорю, что мы живём в очень тяжёлое и серьёзное время испытаний человеческого рода. Во-первых, укорачивается память настолько, что... Вот я, например, не помню телефона моей жены. Я помню кнопку. Я не могу набрать его, я не смогу его набрать. Раньше я все номера автоматически набирал на диске. Вот такой парадокс, что абсолютная доступность любой информации лишает человека любознательности.
Вторая вещь, которая убивает память, — это банализация. Банализация убивает по-другому: «А не хотим слышать! Мы слышали».
О. Пашина
― «Мы знаем, знаем, да».
А. Кончаловский
― «Ну да, ну да. Ну, убили 6 миллионов — ну и чего? А у нас тут 25 миллионов...» И как бы говорят об этом... То, что общеизвестно, не обязательно... не значит, что это не страшно. И вот эта банализация не менее опасная. И она тоже исходит от современной цивилизации, она исходит из Интернета. Доступность всего. Возьмите, что случилось... что вообще происходит с педофилией. Она возникла только тогда, когда возникли порнографические сайты. Такой варварской тенденции в человечестве 25 лет назад не было, выпускали детей гулять, все гуляли на улицах. Это такая опасность, о которой надо говорить постоянно.
О. Пашина
― Так вы вскользь упомянули про журналистику. Я хочу сказать, что существует ещё такая опасность — отсутствие критического анализа и восприятия информации. Потому что большинство людей, которые смотрят телевизор, слушают радио, читают газеты (ну, сейчас газет уже меньше читают), они не анализируют эту информацию. Они этот «питательный бульон» получают и не задумываются о том, кому это выгодно, кто и что хочет им сказать, почему до них хотят донести эту информацию. А как-то заставить, я не знаю, или помочь думать-то? Или это невозможно? Вот для подавляющего большинства людей это просто питательный субстрат — для них вся эта информация.
А. Кончаловский
― Здесь я придерживаюсь как бы... Я не могу сказать, что надо стремиться к тому, чтобы все всё понимали. Во-первых, это просто невозможно.
О. Пашина
― Ну да.
А. Кончаловский
― Вы знаете, в Писании написано, что дорога вниз широка, и она идёт легко, а дорога наверх очень узка и идёт каменисто. Наверх подыматься, к какому-то духовному совершенству, к самосовершенству в любом смысле — в физическом, в профессиональном — только немногие, потому что так человек устроен. Ну, так человек устроен, поэтому выдающихся людей всегда меньше, чем субстрата. И это зависит... Я думаю, что это зависит только от каждой личности. Мы не можем... нет сил, которые могли бы воспитать совершенную личность и гармоничную во всех отношениях. Я не верю в идеал в этом смысле. Нам придётся бороться в этом болоте всю жизнь. И ложь всегда будет бороться с истиной. Понимаете, всегда. И очевидно, те немногие люди, которым повезло, которые самосовершенствуются, они всегда и будут тем, на что надо надеяться человечеству.
О. Пашина
― Но большинству нравится какая-то такая националистическая, не знаю, вплоть до фашистской идеология. А тем, кто вылезет и скажет: «Да что вы делаете?» — им скажут: «Да вы враги!».
А. Кончаловский
― Мне кажется, у вас тут тоже есть некоторое, на мой взгляд, смещение.
О. Пашина
― Да?
А. Кончаловский
― Да. И вы знаете — почему? Нельзя под одну гребёнку кидать национализм и нацизм, это абсолютно разные вещи. Это случилось когда — национализм приравняли к нацизму? В 1947 году, после Нюрнбергского процесса, возникло такое: «Националист — значит фашист, значит нацист». Это глубокое заблуждение, на мой взгляд. Потому что, во-первых, мы живём на планете, где существуют и расы, и нации, и разные культуры. И националист необязательно должен быть, во-первых, сумасшедшим маньяком. Это во-первых.
Во-вторых, националист думает просто о том, как сделать свою нацию великой, но он не думает о том, что это надо делать за счёт других наций. Нацист — это человек, который говорит: «Мы будем уничтожать других, потому что мы выше всех». Вот в чём разница. Понимаете, любой ребёнок о своей матери, как правило, говорит: «Моя мама лучше всех». А когда его спросишь: «Почему?» — он не скажет.
О. Пашина
― Потому что это мать.
А. Кончаловский
― Мать. Но он растёт, он видит, начинает видеть недостатки матери, но он её меньше не любит. На мой взгляд, такое же отношение у каждого человека, который может даже считать себя националистом.
Другой вопрос, что фундаментализм в национализме, понимаете, «Россия — для русских», или дальше пошли куда-то в очень серьёзные проблемы, где надо за счёт других наций превозносить себя, — это уже опасно. Но были великие националисты. Ну, я не говорю... Ну, де Голль — он был, конечно, националист. Насер, который был националист и который... И об этом хорошо писал очень президент Чехии Вацлав Клаус, который, конечно, был один из самых серьёзных политиков, и ответственных, которых сломала... Брюссель сломал его, это я знаю. Баррозу ему звонил, до 5 утра его прессовал.
О. Пашина
― Мы, конечно, видим по примеру Европы, что вот эта вся глобализация, мультикультурность — она потерпела некоторое поражение. Хотя, на мой взгляд, идея была совсем неплохая. «Уже в XXI веке, может быть, забыть о национальностях вообще? Это не важно. Есть страна, государство, общность этих людей. Не важно, какой они национальности. Мы хотим, чтобы наша страна была великой. И не важно, какие национальности туда входят». Идея неплохая, но опять-таки мы видим, что происходит. Вот эти мигранты — они не вписались в эту жизнь.
А. Кончаловский
― Значит, что-то...
О. Пашина
― Что-то не так.
А. Кончаловский
― Что-то пока ещё не так. Я думаю, что это довольно логично, что идея мультикультурализма сегодня терпит поражение — просто потому, что разные цивилизации, разные культуры развиваются с разной скоростью. И иллюзия — она практически большевистская. Большевистская иллюзия, что, во-первых, «мы сейчас возьмём власть — и будет сразу построен коммунизм».
О. Пашина
― «И построим рай».
А. Кончаловский
― Да, «и построим рай». Такая же иллюзия: «Мы сейчас всех соединим — и они будут все жить в добре и в любви». Это сегодня невозможно — ну, просто в силу того, что существует разница во времени. Вы знаете выражение «джетлаг»? То есть человек прилетел из Америки в Москву и не может спать. А почему? Это для человека разница во времени.
О. Пашина
― Не может перестроиться.
А. Кончаловский
― То же самое — у нас разница во времени в национальных развитиях. Мы живём в разных стадиях. Знаете, как в лесу. В лесу деревья не ровно растут. Есть хорошее выражение: «Бог леса не ровнял». А почему? А потому что одно дерево растёт в тени, а другое — на горочке. И вот уже два дерева разной высоты, хотя одно и то же. И к этому надо относиться с этой точки зрения.
По поводу как бы причинно-следственных связей. Очень часто говорим сейчас о том, что: «Где Европа? Где Россия? Какая Россия — европейская, неевропейская? Почему? Как?» Так надо же понимать просто, что колоссальная разница есть между русским человеком, который семь месяцев под снегом, и испанцем, который вообще снега не видит, а если и видит, то две недели. Даже такая простая вещь, как снег, присутствие снега, меняет очень представления человека о мире и о самом себе. Об этом надо думать. И об этом очень серьёзно думают, даже пытаются найти, собрать ряд учёных сейчас для того, чтобы разобраться в культурном геноме. Как я говорю — культурный геном.
О. Пашина
― Геном?
А. Кончаловский
― Да. Разобрать его составные части и понять, почему мы такие, а не какие-то другие.
О. Пашина
― В Соединённых Штатах сейчас президентом стал человек, который во время своей предвыборной кампании играл на национальных чувствах избирателей: вся эта борьба с мигрантами, строительство стены, «мы высылаем нелегалов». Как вы считаете, хорошо ли это для Соединённых Штатов, хорошо ли это для России, если мы как-то взаимно влияем друг на друга?
А. Кончаловский
― Я не знаю. Когда-то я думал, что я всё понимаю в политике. Ну, не всё, а во всяком случае — много. Но чем дальше я живу и чем дальше я смотрю на то, что происходит, я понимаю только, что мир управляется совсем другими гравитационными силами, которые не на виду. Вот я вам говорил, понимаете, этот самый... Удо Ульфкотте. Вот тебе пожалуйста — немецкий журналист, написавший откровенные слова о немецкой прессе, что она работает по заказу американских кругов, и неделю назад найден мёртвым. И бессильно думаешь: ну, это же кому-то надо.
Где-то какие-то серьёзные очень силы, которых мы не понимаем. И часто имеем представление, а на самом деле... Я часто употребляю выражение, что «мы все — мухи в чемодане». Мы летаем, думаем, что там что-то... беседуем...
О. Пашина
― Что это наша вселенная.
А. Кончаловский
― Да-да. А кто несёт чемодан?
О. Пашина
― И куда?
А. Кончаловский
― И куда несёт? Мы не знаем. А ещё кто платит тому, кто несёт? И так далее.
Поэтому, конечно, признаюсь вам, любой деятель политически крупный в Америке — так же, как и в Европе, — он лишь администратор. Он очень мало что может, он администратор — в силу больших причин, потому что гигантские... понимаете, там за всем этим стоят гигантские экономические и финансовые...
Вот вы видели последнее? Вот неделю назад просто в прессе: восемь человек владеют половиной мирового состояния. Мирового состояния! Ну, это же как бы, понимаете... Уже забудем о справедливости, но в этом есть абсолютная аберрация экономических законов. А ведь какие-то экономисты что-то там считают, говорят, ВВП и так далее. А вот как экономисты подсчитают, почему так случилось? Наверное, всё-таки марксизм... ещё не время марксизму уходить со сцены, я бы сказал.
О. Пашина
― Хочется вернуться всё-таки к фильму. У нас буквально остаётся сейчас минута до кратких новостей, но тем не менее я задам этот вопрос. Фильм абсолютно нетипичный, я бы даже сказала — абсолютно радийный. Ну, я сужу как радийщик. Абсолютно лаконичная чёрно-белая картинка. Блистательные монологи! Или, может быть, это интервью скорее, да? Это интервью. Мы не будем раскрывать сюжет, кому они дают интервью: Господу Богу, святому Петру. Но это необычная форма. Почему именно такая форма была выбрана для этого фильма?
А. Кончаловский
― Вы знаете, сложно отвечать. Если бы я мог рассчитать всё научно, то это было бы... Алгеброй гармонию проверить иногда довольно трудно. Я бы сказал, что любой сценарий, когда пишется, любая идея, если она находится в процессе нахождения соответствующей формы... Понимаете, когда приходит какая-то идея, и начинаешь думать, как её донести зрителю, начинаешь думать о том, как же можно выразить что-то такое, что скрывается...
Ой, Боже мой... Вы знаете, мы с вами вот здесь сидим, мы смотрим друг на друга, микрофоны. И мы вряд ли задумываемся, что всё это как бы рябь. Мы все вместе — это рябь на поверхности океана. И когда Ньютон, великий Ньютон после открытий всех, которые он сделал, сказал: «Я чувствую себя ребёнком, играющим камешками на берегу океана», — понимаете, это говорит о том, что тогда только ты начинаешь понимать ничтожность своих попыток и вообще свою роль для того, чтобы... если ты сможешь понять, как велико всё там, где-то.
И наверное, самое главное, что меня волнует сейчас, — это не характеры, а попытка попытаться увидеть ту глубину океана, которая за видимым миром находится. За любым — за вами, за мной — за нами видимыми есть какая-то невидимая божественная субстанция. И она соединяет весь мир.
О. Пашина
― Мы сейчас прервёмся на краткие новости, а потом обязательно продолжим. Андрей Кончаловский в студии программы «Дифирамб».
О. Пашина
― Мы продолжаем программу «Дифирамб». В нашей студии — режиссёр Андрей Кончаловский. И продолжаем говорить про фильм «Рай». Про героев давайте поговорим немножко, потому что это тоже интересная история. Принцип был такой, насколько я понимаю: русские играют русских, немцы играют немцев, французы играют французов. И исключение было сделано для Виктора Сухорукова, который сыграл Гиммлера. Почему он?
А. Кончаловский
― Это случайно. Вы знаете, я искал немца, искал. Конечно, хотелось, чтобы немец сыграл. Но, во-первых, там интересная проблема у них — ментальная. В Германии очень серьёзные проблемы ментальные, колоссальные вообще! Я думаю, что им предстоит как-то найти себя. Они абсолютно... Им вбили в голову, что они виноваты. И до сих пор эти поколения даже двадцатилетних опускают глаза и не хотят даже думать. Это неправильно. Я считаю, что это несправедливо. Виноваты были деды, а эти ничем не виноваты. Вообще Германия — великая нация. Хотите вы или нет, но она великая нация, понимаете. Один Гёте чего стоит просто. Но такая ситуация, что западные немцы не хотят играть нацистов.
О. Пашина
― О как!
А. Кончаловский
― Да, не хотят. Потому что у них было воспитано, вот это вбили им такую чушь. А восточные немцы играют с удовольствием. Поэтому восточный немец замечательно сыграл вот этого Краузе. Он замечательный актёр, он Чехова много играет.
О. Пашина
― Я хочу сказать, что удивительно... Опять же глубокие такие характеры, потому что он такой милый даже! Несмотря на то, что, вот казалось бы, нужно испытывать отвращение, это начальник концлагеря, а он такой славный! Он пьёт шнапс, любит эту собаку. Он такой человечный! И хочется сказать этому мальчику: «Ну, что ты? Зачем ты его уничтожаешь? Он же миляга!»
А. Кончаловский
― Вы понимаете, так в этом весь ужас.
О. Пашина
― И одновременно понимаешь: нет, этого не может быть! Но он такой.
А. Кончаловский
― Но ведь Гиммлер-то говорит фразы, которые я взял из его речей. Гиммлер говорит фразу: «Гениальность СС заключается в том...» Все думают, что СС — это маньяки какие-то. Нет, это нормальные булочники, аптекари, это буржуи нормальные, фермеры.
О. Пашина
― Благопристойные отцы семейств.
А. Кончаловский
― Да. Но когда возникает вот эта страшная и мутная река варварства, то: «Я делаю так же, как и все другие, и я не отличаюсь». Вот это философия толпы, страшная охлократия! В этом-то всё и дело, что большинство немецких солдат были нормальные люди. Сегодня они бы перевели через улицу вас, если вы плохо видите.
В этом трагедия зла. Потому что трагедия зла не в том... Если бы оно ужасно выглядело, никто бы туда не кидался. Конечно, потом, когда ты кидаешься в эту мутную реку, она тебя несёт. И вдруг ты просыпаешься и оглядываешься по сторонам — и ты понимаешь, что тебя покрывает пот, и ты понимаешь: «Где я? Что я?»
Что касается немца. Не нашёл я Гиммлера, которого бы мне хотелось. И подумал: а может быть, вот Сухорукова взять? Потому что он интересный, странный. Он вообще странный и сумасшедший. И вот эта странность, сумасшедшесть его — это его оригинальность такая. С ним было нелегко, потому что, во-первых, он приехал, и надо было по-немецки и по-русски, а тексты огромные, страницы, и ему было тяжело. Но совместными усилиями... Главное, что он остался именно самим собой — таким странным человеком с пристальным и очень пугающим взглядом.
Но вообще этот характер, может быть, наиболее сложный. Почему? Потому что он гипнотизирует. Такого рода люди — они все Вольфы Мессинги. От них исходят страшные волны какие-то, которым невозможно сопротивляться. Поэтому герой уходит, потом его начинает рвать, пот прошибает и так далее.
О. Пашина
― Тошнит, да. И там у него за плечом что-то стоит и вибрирует. Вот это оно и есть.
А. Кончаловский
― Да. Но что касается обаяния. Вот то, что вы говорите. Вы понимаете, в том-то всё и дело. Это как раз и было очень важным, чтобы люди... Вы знаете, я очень верю в своих зрителей. Я не хочу им не доверять. Я иногда ошибаюсь. И те зрители, которые не мои, они уходят. Ради Бога. Я не против того, чтобы с моих картин уходил кто-нибудь. Я предпочитаю тем, кто останется до конца — это самые ценные зрители. А что значат зрители такого рода? Это зрители, которым не нужно всё разжёвывать, не нужно объяснять, что плохое, а что хорошее, а нужно, наоборот, им говорить: «А вы вот решите сами». Ведь в жизни, слава Богу, есть родители, которые тебе говорят, что хорошо, а что плохо. А мы им верим? Как правило, нет.
О. Пашина
― К концу жизни, как правило. Или к середине как минимум начинаем уже доверять.
А. Кончаловский
― Да, как правило. А вот в середине, когда он всё это говорит, ты думаешь: «А, всё это...» Поэтому каждый умом своим, понимаете, живёт и крепок. И обычно нужно обязательно ошибиться или потерять, чтобы понять, что ты ошибался или потерял. И для меня очень важен тот зритель, который сидит и даже не может понять, как ему воспринимать то, что он... Это сложное для меня искусство. Потому что гораздо проще рассказать, что хорошо, а что плохо.
О. Пашина
― Ну, фильм «Рай» — он чёрно-белый, но там нет плохих и хороших, и однозначных рецептов нет. Они все вот такие. А. Кончаловский ― Вот это очень важно. Потому что только тогда...
О. Пашина
― Живые они.
А. Кончаловский
― Вот только тогда, когда вы должны сами решить, тогда вы духовно растёте. Если существует какой-то одномоментный момент роста в искусстве, который, может быть, не надолго, но он существует именно тогда, когда вы стоите перед моральным выбором, а не герой.
О. Пашина
― А вот этот мальчик, который Хельмут, — он кто вообще, он откуда? Он так хорошо играет. Или такой природный дар у него? Ну, вот ему веришь абсолютно просто! Казалось бы, он, как на допросе, должен отвечать, а он там — как на исповеди. Вот бровки домиком, и всё это рассказывает, такой славный. И хочется убить его местами.
А. Кончаловский
― Вы знаете, это вопрос режиссуры.
О. Пашина
― Да? Спасибо вам тогда!
А. Кончаловский
― Ну а мальчик хороший, замечательный. Это его первая роль.
О. Пашина
― Первая роль?
А. Кончаловский
― Он из Дрездена, он работает в театре, театральный актёр. Чистый, как... я не знаю...
О. Пашина
― Слеза ребёнка.
А. Кончаловский
― Да, абсолютно ребёнок наивный. И в нём есть эта романтичность — та, что очень свойственна настоящему немецкому характеру. Вертер. Вот если вы возьмёте большие немецкие характеры великие, то это чистота помыслов.
И в этом-то, между прочим, и есть ужас зла, когда вот такие чистые люди с абсолютной убеждённостью потом делают страшные вещи. Но ведь это же было не только в Германии. Вы можете взять и Средневековье. Вообще во времена Савонаролы по Флоренции ходили мальчики в белых рубашках и жгли картины Боттичелли. В России были такие же замечательные чистые коммунисты, святые люди, которые расстреливали во имя революции, абсолютно не задумываясь. И это тоже были совсем не такие, знаете, злодеи.
О. Пашина
― А вот эти современные мальчики, которые громят выставки и кричат, что это безобразие, это разврат, порнография и всё такое подобное, — они такие же? Или они всё-таки политически ориентированные карьеристы?
А. Кончаловский
― Вы знаете, громить выставку и убивать человека — это разные вещи.
О. Пашина
― Ну, картины жгли?
А. Кончаловский
― Громить выставку — это неопасно.
О. Пашина
― Логично.
А. Кончаловский
― А убить человека — это опасно. И это разные вещи. Поэтому, конечно, когда кто-то выражает свои такие чувства... Тут тоже, понимаете... Я бы сказал так. У нас в нашей культуре русской существует то, что можно назвать манихейством; дуальность: либо герой, либо мерзавец. Как сказал Лесков: «Кто не с нами — тот подлец». Очень просто. И как левые говорят «кто не с нами — тот подлец», так и правые говорят «кто не с нами — тот подлец».
Поэтому, если я беседую с Быковым... Вот говорят: «Как он размазал Быкова!» Я никого не размазываю. Я беседую с человеком, с которым я дружу. Он верит в одно, я верю в другое. Я его слушаю. Мне интересно, что он говорит. Я с удовольствием слушаю и говорю ему: «Мне кажется, ты заблуждаешься». Но ни в коем случае он мне не враг.
Не хватает нашей культуре искусства дискуссии, терпимости к противоположному мнению. И пока мы не научимся, понимаете... Я много раз высказываю такие вещи, которые не подходят «Эху Москвы» совсем. Не подходят. И «Эхо Москвы» отворачивается...
О. Пашина
― Мы всё вырежем. То, что не подходит, сейчас всё вырежем.
А. Кончаловский
― «Ну, вот он ошибся...» Но я с удовольствием сюда прихожу и повторяю, и говорю, потому что у меня тут друзья, и мне нравится ваша передача — несмотря на то, что я не согласен с какими-то концепциями или мечтами, которые я считаю иллюзиями как консерватор. И поэтому что касается... Нам нужно научиться толерантности. Нам нужно научиться иметь вот ту самую... Вот у Европы надо научиться одному — существует нейтральная аксиологическая зона, где должны встречаться противники. И на этой нейтральной зоне они могут друг друга убеждать.
О. Пашина
― Но не уничтожать.
А. Кончаловский
― Во-первых, не уничтожать. Во-вторых, для того чтобы дискутировать, надо слушать, а не ждать, пока тот кончит говорить, и начать...
О. Пашина
― Кричать своё.
А. Кончаловский
― Кричать своё. Это очень важно. Потому что иначе мы не найдём того консенсуса, который необходим для развития страны нашей.
О. Пашина
― Но если включить телевизор, мы как раз вот этот сценарий и видим...
А. Кончаловский
― Да, абсолютно.
О. Пашина
― ...где каждый кричит своё и ещё может пнуть.
А. Кончаловский
― Это не дискуссия. К сожалению, это не дискуссия, потому что каждый остаётся при своём и ещё к тому же голосует. И обязательно кто-то кого-то размазывает.
О. Пашина
― Да-да-да.
А. Кончаловский
― Вот хорошо бы не мазать. Мы живём в одной огромной, гигантской лодке, которая называется «Россия», понимаете, в которой много остаётся от империи. Когда мы говорим «многонациональное государство»... Ну, не будем скрывать: это империя.
О. Пашина
― Да.
А. Кончаловский
― Мы живём в империи, где есть нация основополагающая — русская. Но у нас такое количество наций! 50–60 наций, начиная от черемисов... Кого там только нет! По Волге брать, а если дальше, на север идти... то есть на восток. Масса разных национальностей, которые дают определённую красоту нашей... Вот возьмите северные народы. Вот в Архангельске какие удивительные люди, там поморы. Это совсем другие, чем москвичи. Ну, совсем. Но они не знали крепостного права.
О. Пашина
― В связи с этим возникает вопрос: нам нужна какая-то объединяющая идея? Власти заговорили в последнее время о национальной... Скрепы сначала были, а теперь какая-то национальная... государственная идеология. Она нам нужна? И если да, она какая, на ваш взгляд, должна быть? А может быть, не нужна? А. Кончаловский ― Нет, вы знаете, это сложно... Вообще национальную идею нельзя вырастить в лаборатории и в академии наук, она растёт сама по себе. Вообще в России национальной идеи, как правило, не было до тех пор, пока кто-то на неё не нападал. Как только на Россию нападал кто-нибудь — ливонец ли, поляк, или француз, или немец — сразу возникала национальная идея, которая выражалась в «дубине народной войны», как сказал Толстой.
О. Пашина
― То есть нам нужен внешний враг?
А. Кончаловский
― Нет, он всегда есть. Но когда он нападает — тогда он сразу объединяет нашу нацию. И вот это как раз... Как ни странно, вот это противостояние сейчас с Западом и, на мой взгляд, противостояние с Америкой очень острое — оно сразу объединило нацию. Понимаете, объединило. К сожалению, это называется сейчас «антиамериканизм».
Что касается национальной идеи. Вы знаете, вообще патриотизм — это тихая вещь, тихая. Патриотизм не выражается в «Гром победы, раздавайся!». Патриотизм — это вообще, знаете, чувство принадлежности. Мы же всегда радуемся, когда, например... Когда меня ругают, говорят: «Он американский режиссёр». А когда у меня какой-то успех, то говорят: «А вот наш...»
О. Пашина
― «Это наш», да.
А. Кончаловский
― Почему? Да потому что, если есть повод гордиться чем-то, то сразу «наш». Конечно, это приятно, когда есть повод гордиться. И я очень рад, если я могу быть поводом гордиться моей культуре, потому что я русский человек, продукт русской культуры. Другое дело, что я русский европеец, но я не один такой. И всё равно всё лучшее, что есть во мне, — это результат воспитания родителей, которые глубоко русские люди, и воспитания и дедушек, и бабушек, и незнакомых людей вообще. Просто мы все — результат русской культуры.
О. Пашина
― И снова я хочу вернуться к фильму «Рай» и к героям непосредственно.
А. Кончаловский
― Вот видите, вы меня про «Рай», а я что-то такое... куда-то меня несёт в другую сторону. Извините.
О. Пашина
― Ну, всё взаимосвязано. Нельзя, наверное, как-то... Одно не исключает другое, одно плавно перетекает в другое. Тем не менее — к персонажам. Вы сказали, что немцы некоторые не хотели играть Гиммлера.
А. Кончаловский
― Да.
О. Пашина
― Французы как отнеслись к теме коллаборационизма? Потому что она такая скользкая тоже для них достаточно. Коллаборационистов хотели играть?
А. Кончаловский
― Вы знаете, во Франции существует жесточайшая цензура, жесточайшая цензура по поводу коллаборационизма.
О. Пашина
― Да вы что?
А. Кончаловский
― Дело в том, что де Голль, когда пришёл к власти после войны, он наложил абсолютное вето на все вопросы коллаборационизма. Почему? Объясню. Во-первых, потому что полнации очень успешно сотрудничало с захватчиками. Во-вторых, я уже не говорю, что правительство Петена было просто правительством чистого коллаборационизма. Огромное количество серьёзных людей, можно сказать — выдающихся людей, людей культуры, которые прекрасно жили при оккупации немцами.
Если бы он открыл этот ящик Пандоры, то в стране произошёл бы колоссальный раскол. Ему это было совсем не нужно. Он был крупный политик. Он объединил нацию и закрыл. В этом году только истекает срок запрета... в прошлом году истёк срок запрета на документы. И видите — до сих пор не открывают. Тут есть моральная ответственность, стыд. И французы не любят говорить... Просто ещё есть цензура. Французы не любят говорить о коллаборационистах.
Ну а кто любит говорить о коллаборационистах? Ну, русские не боятся вообще ничего, честно говоря. Мы вообще эксгибиционисты в чистом виде. Мы всё что угодно вываливаем: и коллаборационизм, и... Ну, такая у нас страна, мы этого как бы не боимся. Ну, поэтому, наверное, Гражданская война и была в 1918–1919 гг.
О. Пашина
― Но тоже честный такой французский персонаж, который, с одной стороны, говорит с возмущением жене: «Я не эсэсовец!». А с другой стороны, он работает на эту власть.
А. Кончаловский
― Ну, знаете, это называется «здоровый прагматизм», если говорить так с грустью. Можно сказать «здоровый прагматизм». Понимаете, вообще-то, он мне симпатичен. Вообще они все мне симпатичны... Как бы сказать? Не «симпатичны», не так. Он мне понятен.
Понимаете, Достоевский, когда писал «Преступление и наказание», он сказал в записках, написал: «Легко обвинить злоумышленника, трудно его понять». Собственно «Преступление и наказание» о том, как он пытается... автор пытается понять человека, который готовится к убийству, логически. Поэтому в этом смысле я тоже пытался его понять. Ну, видите, у него трагическая судьба, которая, так сказать... которая вас первый раз бьёт в картине.
О. Пашина
― Ну да. И я хочу сказать, что и бойцы Сопротивления тоже там не ангелы в белых одеждах — люди, которые убивают отца на глазах у мальчика. Тоже как-то думаешь: «Ага... А как вообще?»
А. Кончаловский
― Ну, так в жизни всё...
О. Пашина
― Так в жизни всё и бывает.
А. Кончаловский
― Белое, чёрное. Зло, добро.
О. Пашина
― Я хотела спросить ещё, понравилась ли... довольны ли вы тем, как сыграла Юлия Высоцкая свою роль? Потому что я говорю как неискушённый, но искренний зритель: у меня было ощущение абсолютной вот правдивости и настолько ощущение присутствия, что в какие-то моменты я отводила глаза. Мне казалось, что смотрят на меня и говорят мне в лицо. И помимо этого... Ну, она, конечно, в этих сценах интервью, исповеди, разговора безумно красива. Вот это истощённое состояние, этот взгляд. Ну, у меня было ощущение, что напротив меня сидит живой человек, она со мной разговаривает, и мне в какие-то моменты неудобно. И я вот так вот... Не знаю, как будто я с вами разговариваю. И я отвожу глаза.
А. Кончаловский
― Я очень тронут. Мне это дорого очень. Ваше чувство мне дорого, потому что это говорит о том, что мы не зря искали. Вы знаете, ведь режиссура... Кино вообще — ведь это такая вещь... Знаете, литература начинается на заборе, а кончается в библиотеке. Поэтому изображение само по себе — сложная вещь. Потому что мы сегодня очень избалованы... Мы знаем точно, где правда. Мы знаем точно, где похоже. Мы знаем точно, где хорошо играет человек. Но мы не можем понять, как он может не играть, а жить. Это самое сложное. Для меня как для режиссёра и для художника сегодня самое сложное — пытаться достичь вот того, что за рябью находится, не правду, а увидеть истину. И вот это очень сложно, это мучительный процесс.
Замечательно написала Толстая, что перед вами как бы забор... Художник видит реальность, и это забор. Ну, забор — это реальность. А большой художник, который пытается найти что-то, он приподнимается на цыпочки, чтобы увидеть, что там за забором. Вот за забором и есть та самая истина. И она скрывается не в хорошей игре. Она скрывается в каком-то, может быть, очень серьёзном духовном усилии, которое похоже на смерть, которое похоже на драму настоящую — не актёрскую, не персонажа, а человеческую.
И Юлия в этом смысле очень отважный человек. И путешествие было очень длительным, мучительным для неё. Но самое главное, что она говорит, что она никогда не было более счастлива. Хотя там есть фразы в фильме, которые... И вообще там почти ничего не было написано, начнём с этого.
О. Пашина
― Как это?
А. Кончаловский
― А так. Вообще все эти три характера не говорили писаный текст. Я дал им домашнее задание за три месяца, каждому по несколько книг: французу — о коллаборационистах, немцу — о нацистах, Юлии — о русских эмигрантах, героях Сопротивления. Несколько разных книг, записки. И я сказал: «Вы эти книги должны знать наизусть. Я буду задавать вопросы, а вы должны отвечать».
Там не было текста, и поэтому это выглядит по-другому. Это выглядит как серьёзный экзамен человека, а не актёра. А Юлии особенно было тяжело, поэтому там есть фраза, например: «Я больше не могу». Это ведь не относится к характеру. Это относится к тому состоянию, в каком она находилась. Понимаете? Вот почему мне дорого очень, что вы сказали, что это жизнь, и что вы... Вот я чувствую, что вы очень взволнованы. Мне это дорого.
О. Пашина
― Спасибо вам. Мы начали с того... Говоря о фильме, вы сказали, что это фильм о природе зла, о притягательности зла. У меня к вам такой вопрос. Может быть, он несколько необычный, может быть, странный. Ну, вот он так возник. Это отчасти перефразированный известный анекдот. Если добро сильнее зла, сможет ли оно поставить зло на колени и зверски убить его?
А. Кончаловский
― Конечно нет. Зло неуничтожимо. Это страшно наивная идея, которая свойственна американской ментальности: зло можно уничтожить. Это чистое манихейство. Зло нельзя уничтожить. Человек создан для того, чтобы всю жизнь бороться со злом. Достоевский же сказал: «Человек — это поле борьбы между ангелом и дьяволом». Не забудьте: зло — порождение космоса такое же, как и добро. А если говорить в таких библейских категориях, то всё зло создано Богом. Сатана — это падший ангел.
О. Пашина
― Он хотел как лучше, а получилось как всегда?
А. Кончаловский
― Нет, почему?
О. Пашина
― Или хотел как хуже? Вот Его побудительные мотивы каковы?
А. Кончаловский
― Побудительные мотивы? Чтобы не дремать.
О. Пашина
― А! То есть раскачивать всё время мир.
А. Кончаловский
― Чтобы не дремать. А как же? Вот то, что называется «пузыри зла» — это как бы творческое начало. «Пузыри зла» — это творческое начало. «Пузыри земли» у Шекспира. Тростников, такой был замечательный... И есть, он живёт, Виктор Тростников — это такой теолог, христианский учёный советский. Я его книжки в самиздате перевозил в штанах через границу, чтобы опубликовать на Западе. Тростников — замечательный и интересный религиозный философ. Он говорит как раз, что «пузыри зла» всё время растут, и без них творчество не происходит.
В борьбе со злом мы растём. Если бы не было зла, мы бы умерли, мы исчезли бы в самодовольстве. Должно быть зло, но с ним надо бороться всю жизнь, это другой вопрос. Не спать! На то и щука в пруду, чтобы карась не дремал.
О. Пашина
― Это была программа «Дифирамб» и режиссёр Андрей Кончаловский. Я благодарю вас и желаю фильму «Рай» от всей души получить «Оскар».
А. Кончаловский
― Спасибо, спасибо.
О. Пашина
― Я думаю, это будет правильно.
А. Кончаловский
― Спасибо.
О. Пашина
― Всего доброго!