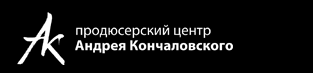Андрей Кончаловский: Дед вернулся в Россию и жил как обедневший помещик
Есть расхожее мнение, что Петр Кончаловский перестал служить принципам искусства и стал соцреалистом. Это бред, который пишут наши малокультурные искусствоведы! Он не стал соцреалистом, потому что соцреализм — это идеологическое. Живопись не обязана быть реалистичной, люди просто не понимают разницы между реализмом и соцреализмом. Реализм — это фигуративное искусство, отражающее в большей или меньшей мере реальный мир так, что он узнаваем. А соцреализм — это отражающий не столько реальный, сколько выдуманный, идеологический мир, в котором люди счастливы.
Соцреализм служит идеологии и пропаганде, а реализм — просто искусство. Пушкин был реалист, но он не был соцреалистом — вот разница. Да, потом Кончаловский стал писать более реалистично, чем когда начинал, но его искусство письма, его техника остались основаны на законах, открытых Матиссом. А соцреалисты часто писали, не признавая законов Матисса, серое писали серым, условно говоря.
«Дед всегда оставался русским. И он вернулся в Россию, понимая, что на Западе со своими принципами не выживет»
В 1920-е годы движение в кубизм было уже неодолимо, все рванули либо туда, либо уже в концептуальное во главе с Дюшаном и его писсуаром. Пикассо толкнулся в образ уродства и уродливого искажения реальности. Это стало продаваться. Я думаю, что Пикассо, как хитрый, талантливый, даже гениальный художник, стал писать то, что продается, чтобы сделать себе имя.
Дома же он рисовал нежнейшие портреты Доры Маар, где она красавица, и это все был реализм. Когда он отвоевал себе место и стал зарабатывать деньги, то опять вернулся к реализму. Рисуночки эти были совсем домашние, и он делал их для души.
Кончаловскому все это претило, он не умел, как говорил Рахманинов, «писать под модную музыку», имея в виду Стравинского, который колоссально продавался. Дед сделал выставку своих картин в Париже в 1924 году. Она не имела никакого успеха, и он понял, что на Западе со своими принципами и традициями не выживет.
По темпераменту, по изложению и по мазку он всегда оставался брутальным, очень русским, славянским.
«У него не было электричества, радио, он ушел в свою башню из слоновой кости»
Дед вернулся в Россию и купил дом на 112-м километре от Москвы. Жить в самой Москве в атмосфере 30-х годов, когда стучали, сажали, ему было очень противно и тяжело. Ехать некуда: на Западе он вряд ли выживет, он не мог меняться согласно моде, а здесь его ругали, что он пишет «какие-то там картинки, цветы». Вместо того чтобы писать ударников труда и вождей социализма, в 1933 году он написал свой «Автопортрет с собакой».
Он и уехал туда, где мог жить спокойно. Продавал какие-то картины в Третьяковку, какие-то частным лицам и жил на это. В доме, где он поселился, не было электричества, радио. Он ушел, как Пастернак, который спросил в форточку, какое тысячелетье на дворе. Дед ушел в свою башню из слоновой кости. Там было старое имение, которое напоминало ему чеховские времена, у них были свои лошади, коровы, овцы, пчелы. Он жил такой жизнью маленького обедневшего помещика.
К каталогу этой выставки я написал предисловие в виде письма деду. Там я ставлю вопросы — не для того, чтобы на них отвечать, а чтобы думающий человек сам нашел ответы на них, потому что они есть и в документах, и в переписке.
Вряд ли я способен компетентно исследовать истоки твоего творчества — это серьезное занятие для знатоков и специалистов по мировой живописи. Но я знаю то, чего не знают и не могут знать другие: я знаю тепло твоих огромных мягких рук, которыми ты обнимал меня, держа на коленях, я знаю запах горячего кофе, который ты пил из большого кофейника в столовой. Я даже сейчас слышу твой баритон, когда после обеда ты наизусть читал нам, малолетним внукам, облепившим твое большое грузное тело на кушетке, подряд всего «Евгения Онегина», пока голос твой не затихал и мы засыпали вместе с тобой... Я знаю запах скипидара и тертых красок, которые ты давал мне уложить на своей палитре... Твоя палитра! Эти магические названия изумительных цветов, происхождение названия которых ты мне терпеливо объяснял, — волконскоит, умбрия, сиена жженая, ультрамарин!..
Каждая твоя картина начиналась с подрамника, который ты строгал сам, — я помню торжественный ритуал его изготовления. Потом происходил выбор холста для картины — иногда какой-нибудь мешок из немыслимо грубой дерюги оказывался в твоих руках, и ты, прищурившись, говорил: «А на этом, после охоты, буду писать вальдшнепов».
Затем следовала натяжка холста, и я подавал тебе обойные гвоздочки. А как пронзительно пах казеиновый клей для грунтовки!.. И вот холст готов и сияет белизной. Если бы я знал тогда, что много лет спустя он будет висеть в Третьяковке и я буду стоять среди посетителей, слушать объяснения экскурсовода и думать: «А они и не догадываются, что маленьким мальчиком я принимал участие в создании этого шедевра!»
Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось высказать тебе... Чуть не забыл — лакированные туфли. Туфли, которые ты сто лет назад купил в Лондоне и которые мне когда-то отдала мама, я надеваю каждый Новый год и по особенно важным для меня датам.
...И наконец, скажу тебе еще одно: большая часть моей жизни как русского человека, как художника, как отца семейства — это результат того времени, которое я провел с тобой в те детские, солнечные годы... Надеюсь, тебе не стыдно за меня.
Твой внук,
Андрей Кончаловский