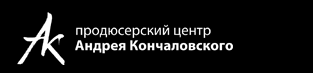Идеальным дядей Ваней был бы Чаплин
В Театре Моссовета Андрей Кончаловский готовится выпустить чеховского «Дядю Ваню». Он экранизировал эту пьесу в далеком 1970 году. Фильм, в котором играли Иннокентий Смоктуновский, Ирина Купченко, Сергей Бондарчук, Владимир Зельдин, стал одной из безусловных удач режиссера и был удостоен нескольких престижных кинопремий. Зачем вновь обращаться к этому тексту, уже на театральных подмостках, чем отличается театр от кино и чем Чехов похож на Ницше и Эйнштейна, Андрей Кончаловский рассказал обозревателю «Известий».
- Вы наверняка знаете, что театральные режиссеры и даже драматурги сейчас, как говорится, ломанулись в кино - Иван Вырыпаев, Василий Сигарев, Мартин Макдонах. А вы все норовите оказаться в театре. Что так манит вас в наши края?
- Что значит в «наши края»? Вы знаете, когда я «Чайку» в парижском «Одеоне» поставил? В 1987 году. Вы, может, тогда еще вообще в театр не ходили. Это вам только кажется, что я кинорежиссер. Я просто режиссер. Другой вопрос, что когда я жил в Америке, то там театр не очень-то... И я от него отошел. Но в Италии, Франции, России я ставил спектакли и буду ставить. Конечно, кино и театр отличаются по своей специфике. Кино можно воспринимать, будучи глухим. А театр - будучи слепым.
- Будучи слепым - это как?!
- В театре можно получать наслаждение от великой драматургии. Слово тут важнее, чем картинка. Оно картинкой не убивается.
- Иногда еще как убивается...
- Ну, это плохой театр. А в хорошем театре голос и литература очень многое могут дать зрителю. В кино же слово не живое, механическое. И вообще там оно подчинено образу. Поэтому сценарии Бергмана, например, не получается ставить в театре. Поэтому так важен баланс слова и изображения. Он соблюдается очень немногими и в театре, и в кино. Только крупный режиссер может верно почувствовать, где образ важнее слова, а где слово важнее образа.
- Но вы как-то используете в театре свой богатый и мощный кинематографический опыт? Или просто стараетесь существовать в другой системе координат?
- Когда Микеланджело делал скульптуры, он забывал о цвете. А когда делал фрески, забывал об объеме. Это разные профессии. Кино - это производство. Запускаешь ракету, и она уж куда летит, туда и летит. А режиссер театра может собрать артистов после премьеры и сказать: давайте сделаем все иначе. Театр - это вечный поиск истины. Артист меняется, и спектакль меняется. Он как живой организм, который растет, взрослеет, стареет, а потом умирает.
- Вы наверняка видели спектакли Робера Лепажа. В его спектаклях театральная реальность кажется совершенно кинематографической. Он фактически снимает кино театральными средствами...
- Да он просто изживает в театре свой комплекс неполноценности как кинорежиссер, вот что я вам скажу. Это такое кино для бедных. К тому же кино для бедных у Лепажа, на мой взгляд, очень дорогое... Саймон Макберни тоже использует в театре кинематографические приемы, вплоть до замедленных движений, но он при этом всегда очень театрален.
- Есть и обратные примеры. Скажем, некоторые фильмы Питера Гринуэя или «Догвиль» Ларса фон Триера. Они открыто, даже декларативно, театральны. Эти режиссеры словно бы пытаются стереть границу между театром и кино. А вот вы, как мне кажется, напротив, очень блюдете эту границу. То, что я у вас видела, было сделано традиционными театральными средствами.
- Да, безусловно. Классическая традиция, классическая эстетика и неклассическая интерпретация... Это мое кредо. Меня в театре интересуют характеры. Потому что именно поведение героев и определяет в конечном счете почерк режиссера. А вовсе не картинки. Поведение героев Куросавы, Феллини, Бергмана или Тарковского и создают мир этих режиссеров.
- Но вы знаете наверняка, что сейчас есть театр бессюжетный, визуальный, который только картинками на зрителя и воздействует. Характеров в классическом смысле слова в нем нет. Вас никогда не тянуло попробовать себя в таком нетрадиционном театре? Ведь как кинорежиссер вы позволяли себе порой довольно смелые ходы.
- Но меня все равно и в кино, и в театре в первую очередь всегда интересовали характеры. А сам по себе интеллектуальный онанизм по поводу формы меня мало занимал и занимает. Вообще делать авангардные вещи не так трудно...
- Хорошие авангардные - трудно.
- Хорошие вообще трудно. И авангардные, и какие угодно. Я сейчас говорю о другом. О так называемом новом языке. Он может быть заимствован из панк-культуры, из модных журналов, но если нет характеров, если нет человеческого содержания, он очень быстро умирает. Он оставляет зрителя - меня, в частности, совершенно холодным, потому что я не сочувствую, не сопереживаю. А искусство - это в первую очередь сопереживание. Любой крупный автор - это целый мир, причем мир в определенном смысле одинаковый. Весь Чехов - это в сущности одно и то же произведение. Конгломерат одних и тех же страстей, характеров, проблем... Одна и та же мысль, которой пронизана и его драматургия, и его проза.
- И вы могли бы эту чеховскую мысль как-то сформулировать?
- В принципе да. Загадка жизни, на которую нет ответа.
- То есть такой агностицизм.
- Скорее экзистенциализм. Астров говорит: «Как-то странно... Были знакомы и вдруг почему-то... никогда уже больше не увидимся. Так и все на свете...» Вот что это значит? Или в «Дуэли»: «Никто не знает настоящей правды». Главное в Чехове - и в прозе, и в драме - несостоявшееся событие. То, о чем говорил Зиновий Паперный: должно состояться, не может не состояться и все же не состоится. Это главная черта Чехова... Способность рассмотреть то, что не могут рассмотреть другие люди и другие авторы. Посмотреть на зеленое дерево и увидеть, как с него облетает желтая листва. У него люди обедают, пьют чай, а в это время рушатся судьбы. Другие авторы, чтобы показать крушение судьбы, ввели бы Событие, а он - нет. Он просто знает, что листва облетит...
- Вы согласитесь, что Чехов - самый пессимистичный автор классической русской литературы?
- Вы имеете в виду, что у Чехова нет веры?
- Ну да, у него сплошные вопросы.
А вы знаете, чем пессимист отличается от оптимиста?
- Разумеется. Оптимист на предположение «хуже уже не будет», отвечает: будет, будет.
- Не только. Пессимист - это хорошо информированный оптимист.
- Так у Чехова вся трагедия человека как раз в том, что он плохо информирован. Его пьесы чреваты Сэмюэлем Беккетом, его «В ожидании Годо». То ли придет Годо, то ли нет...
- Да. Но в Беккете гораздо сложнее увидеть любовь к человеку.
- А вы думаете, Чехов любит людей?! Он их любит и не любит. Он все время на этих качелях...
- Он их любит. Он просто показывает, какие они на самом деле. Как они скучно и пошло живут. И в этом его сила. Талантливого человека, погибающего от пошлости, легко любить. А попробуйте полюбить просто посредственность. Чехов любит людей за то, что они умрут.
- «Пожалуйста, еще меня любите за то, что я умру...»
- Вот именно. Он наряду с Эйнштейном и Ницше открыл относительность добра и зла. Относительность восприятия жизни. Он об одной и той же женщине мог написать: «Ее лицо светилось в лунном свете, оно благоухало». И через пять страниц: «Ее желтое лицо было подернуто мелкой сетью морщин». Потому что он фиксировал не столько саму героиню, сколько свое отношение к ней. Или отношение к ней героя.
- Вы конечно же читали подробнейшую биографию Чехова, написанную Дональдом Рейфилдом?
- Я думаю, в нашей стране я был одним из первых, кто ее прочитал. Потому что читал ее по-английски еще до того, как был сделан перевод.
- Она как-то повлияла на ваше отношение к Чехову?
- Она лишь подтвердила то, что я знал и раньше. Я же читал письма Чехова... Он писал Суворину: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу... Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно». О Чехове многое можно узнать из его писем...
- Тем не менее с момента, когда вы снимали «Дядю Ваню», у вас произошло какое-то серьезное смещение в восприятии этого текста?
- Ну а вы как думаете? Тогда мне было 30 лет, а сейчас - 70. Это же два разных человека.
- И в чем состоит смещение? Это можно как-то сформулировать?
- А вам недостаточно того, что в кино Войницкого играл Смоктуновский, а тут Павел Деревянко?
- Это многое объясняет. Но если предположить, что Смоктуновский жив, молод и именно он играет у вас сейчас Войницкого...
- Да не мог бы он у меня сейчас его играть! Потому что мне сейчас нужен на эту роль комический артист. А Смоктуновский очень плохо играл комедии. Деточкин и так далее - это не его стихия. И вообще решение поставить «Дядю Ваню» со Смоктуновским было довольно спонтанным. Я жил тогда между Куросавой и Бергманом. И попытался представить себе, как бы поставил Чехова Бергман, если бы был русским. В том, что я делал тогда, было мало иронии. У Бергмана вообще мало иронии, которой, скажем, навалом у Феллини. Сознательно или бессознательно я тогда слушался Бергмана. А теперь я слушаю больше себя и Антон Палыча. И я давным-давно, уже лет десять назад, понял, что идеальный дядя Ваня - это Чарли Чаплин. Чтобы он ни делал, это все равно смешно. И я понял еще, что дядя Ваня и Треплев - один и тот же герой. Человек, который хотел...
- Ах вот оно что! Ну, это действительно многое объясняет.
- На самом деле это ничего до конца не объясняет. Потому что натягивание характера на какую-то концепцию чревато серьезным провалом. Или, как минимум, упрощением. Для меня сейчас важно ответить на вопрос: а так ли уж талантлив дядя Ваня, чтобы требовать для себя другого места в жизни? Действительно ли он мог быть Шопенгауэром, Достоевским?..
- Мне лично очевидно, что нет. И многим, по-моему, очевидно.
- Но это «нет» обычно не играется. Играется трагедия погубленного таланта. А я хочу, чтобы сыграли трагедию отсутствия таланта.
- И чтобы это - вернусь к тому, что вы сказали раньше - не отменяло того, что нам такого дядю Ваню жаль.
Чтобы подразумевало. У Чехова постоянно чувствуется дуализм отношения к любому персонажу и любому событию. Вот и я меняю свою концепцию от сцены к сцене. Как говорил Бертолуччи, надо создавать ложные иллюзии и потом их тут же разрушать. Потому что нет ничего окостенелого и застывшего. Ни в искусстве, ни в жизни. Мы же не знаем, что произойдет с нами завтра. Мы только знаем, что было вчера. Мы можем планировать одно, а возникает другое. Мы всегда можем это объяснить задним числом, но никогда не можем объяснить вперед. Мы кого-то любим, а потом разочаровываемся, а потом этого человека презираем, а потом миримся с ним. И когда мы правы? Всегда. Просто потому что мы не знаем настоящей правды ни о нем, ни о себе самих. Вы спрашиваете, что главное в Чехове. Вот это, наверное, и есть главное...
Интервью взяла: Марина Давыдова