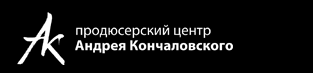«Ставить Чехова — это как залезать на Эверест для режиссера»
Тема: Спектакль «Чайка»
Телеканал «Культура», программа «Ночной полет», ведущий Андрей Максимов
Андрей Максимов: В Москве проходил фестиваль «Черешневый лес». На этом фестивале, помимо прочего, три постановки пьес Антона Павловича Чехова — это «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и спектакль «Чайка», который играется на сцене театра Моссовета. Премьера состоялась 14 мая. У нас в гостях режиссер-постановщик этого спектакля Андрей Михалков-Кончаловский. Первый вопрос у меня такой. Вот мы с вами до эфира говорили о том, что «Чайка» — это комедия. Меня всегда интересовал такой вопрос. Чехов был очень остроумный человек, Чехов и Чехонте — это же один человек? Почему комедию «Чайка» он сделал такой несмешной? Почему она такая несмешная и при этом называется комедией?
Андрей Кончаловский: Что понимать, во-первых, под словом несмешной?
Она несмешная. Там ничего смешного не происходит.
Вы же не видели моей постановки?
Нет. Вы можете трактовать как угодно, но вот сам драматургический материал. Чехонте и «Чайка» — это же как будто написано разными людьми? А называется комедия?
Вы знаете, я думаю, что Антон Павлович в этом смысле был одним из первых драматургов 20 века. Он действительно очень много, по-моему, читал Ибсена. И его интересовал новый театр, где суть скрыта за жизнью людей обычных. Он написал про «Чайку», что «из меня сделали какую-то плакальщицу, а я написал пять томов веселых рассказов». Чайка играла отвратительно, когда он смотрел спектакль, МХАТа между прочим, публика все время рыдала. Алексеев, Константин Сергеевич Станиславский, ходил и чего-то ныл все время бесконечно о том, что у него воли, ему надо вспрыснуть спермину. Он вообще там много замечаний сделал.
Он действительно писал смешную историю?
Нет. Дело в том, что вот Лермонтов сказал однажды, что комедия обязательно должна кончиться свадьбой, а трагедия — смертью. Так вот, Чехов говорил, что в жизни все перемешано, высокое с низким. Не надо бояться фарса. В жизни все перемешано. Мы с вами можем сидеть здесь и разговаривать, потом выйти на улицу, и что-нибудь случится или ужасное, или очень смешное. И все это будет один день или один час. Поэтому когда Чехов писал свою первую вещь, все-таки это первая пьеса гениального писателя, пьеса не очень сильная.
А что вам в ней не нравится?
Мне в ней все нравится. Когда я говорю, не очень сильная, она не построена по классическим образцам.
Я первый раз слышу такое.
Я понимаю. Дело в том, что Чехов начал новую драматургию, можно сказать, даже драматургию абсурда, об абсурдной жизни, о разных вещах, где все главные действия происходили за кулисами, за сценой. Вообще все главное произошло за сценой: и самоубийство, и смерть ребенка Нины, и вообще все то, что могло составлять суть настоящей драмы или мелодрамы: Нина уехала в Петербург, что там было, уехала в Москву, встретились с Тригориным, там любовь, страсти-мордасти — все это оказалось за сценой. А что на сцене? На сцене чирикает сверчок, печка, старик и молодой человек, который теряет свою жизнь. И это, конечно, не комедия в том смысле, в каком можно говорить о комических вещах Чехова в чистом виде, все-таки это большое первое серьезное заявление автора о том, какая должна быть драматургия, какой он видел пьесу сам по себе. Первое. Действия нет. Есть внутреннее состояние, музыка. И вот я наблюдал зрителей, которые смотрят мою постановку, первые две картины, там два акта, люди сидят с такой странной улыбкой, причем позитивной улыбкой. Потому что то, что происходит на сцене, вызывает у них позитивную улыбку. Почему? Это другой вопрос. Понимаете, тексты Чехова подсказывают как бы определенное поведение, которое он не имел в виду. И он все время говорил, он никак не мог понять: у меня же там все написано, у меня все написано. А там это все не написано. Там читается это по-другому. Наверное, вы знаете знаменитую историю, что он много там говорил о паузах, о жизни. Станиславскому страшно хотелось вообще сделать как можно ближе к жизни, реалистический театр и так далее. И они старались насытить это определенными длиннотами, так сказать, паузами: жизнь, там сверчки, собаки и прочее. И, по-моему, на репетициях «Вишневого сада» в середине третьей картины, третьего акта Чехов встал и сказал: «Занавес, занавес. Все». И все на сцене остались в том же положении. Как? Кто? Антон Павлович? Он говорит: «Все. Все. У меня на часах два часа 50 минут. Здесь должна кончиться моя пьеса». Вы понимаете, это очень важно. Значит, он прекрасно понимал, что это должно как-то играться в другом ритме. Это не должно быть растянуто и так далее.
Какой непростой был человек.
Звонок: Спасибо за обращение к драматургии Чехова. Но, вы знаете что, вот показалось, что вы очень поверили автору в том, что это комедия. Пьеса стала сопротивляться этому. А вы упрямо и настойчиво искали вот эти моменты оправдания комедии, привнося определенную какую-то остроту в поведении действующих лиц, такую заостренность, даже в назначении актеров на определенные роли. Вы понимаете что, вот так хотелось увидеть «Чайку». Те люди, которые нас пригласили, сказали, что это сделано с такой любовью к Чехову. Вот на это мы и пошли. Честно, вот уважая вас как большого художника, режиссера, сделавшего столько много известных фильмов, хочется спросить, в чем же выразилась эта любовь?
Я могу понять вопросы. Каждый ведь ищет, когда человек идет на «Чайку», смотреть пьесу, которую, наверное, он знает, каждый ищет в ней ответы на какие-то свои собственные вопросы, на какие-то свои собственные идеи. И очень часто говорят: «Ой, это не „Чайка", это не Наташа Ростова». Я по-другому видел. Или Тригорин должен быть не таким. Естественно, у каждого есть свое представление. И кому-то может не понравиться эта интерпретация, сказать, что это похоже на Чехова, но это не Чехов, потому что характеры сделаны не такими, какими я их представлял. Согласен. Что же делать? Значит, вы не мой зритель. А кому-то очень нравится. Один любит Баха, а другой Чайковского.
Вот ваш спектакль пока не приняла театральная критика. И как водится, я читал рецензии, там огромное количество оскорблений, вообще не имеющих никакого отношения ни к критике, ни к разбору. Как правило, когда критика не принимает, это не означает ничего: ни то, что спектакль хороший, ни то, что спектакль плохой. Это означает, что вас театральная тусовка не любит по каким-то своим причинам. Как вы отнеслись вот к такому, или вы этого не заметили просто?
Нет, во-первых, я не читаю критики. Просто потому что, на мой взгляд, у нас критика не уважает ни себя, ни других. Ну как русские люди вообще, у нас любовь и ненависть есть. Вот есть люди, которых надо хвалить, есть люди, которых надо ругать. И как бы ни пытался человек искренним быть, его все равно будут подозревать в том, что он сделал с какой-то там целью. Но это — бог с ними. Чехов еще об этом писал. Критика и Чехова Антона Павловича так била, и гораздо более крупных художников, чем я.
Но все равно, все те оскорбления, которые со страниц солидных изданий прозвучали, вам абсолютно все равно?
Ну это не солидные издания.
Солидные.
Будем серьезно говорить. Да нет. Вся критика мотивирована. Там мотивировки. Есть причина, по которой ругают или хвалят, там нет серьезного анализа. Анализа серьезного я не вижу. А потом, разве это важно? Если зритель будет принимать, если зритель будет волноваться, если зритель будет чувствовать, что он хочет даже прийти еще раз смотреть это, это самое главное в принципе. А когда критика сумасшедшая, зритель зевает, то все неважно.
Звонок: Андрей Сергеевич, мне как раз, в отличие от предыдущей зрительницы, ваш спектакль понравился. Ваш вариант «Чайки» как раз очень понравился. Органичны все актеры. Просто в восторге. Сегодня даже взяла Чехова, и любопытно так это быстренько эту пьесу просмотрела. Мне показалось, что вы вообще не отступили от Чехова, нисколько. Скажите, а почему, собственно, вы выбрали именно «Чайку», поставили именно «Чайку»?
А почему нет? Никакой причины особенной нет. Во-первых, потому что я хочу поставить все пьесы Чехова, то есть четыре классические пьесы мне хотелось бы поставить.
В театре?
В театре. Там четыре Чехова, там два Шекспира, которые мне нужно поставить, там Стринберг и, пожалуй, может быть, Эсхил.
Это у вас такие театральные планы?
Понимаете, приятно быть в компании с гениями, иметь дело с ними интересно.
Это мечты?
Ну как мечты? Все — мечты.
Или вы завтра приступаете к «Дяде Ване», грубо говоря?
Во-первых, «Дядю Ваню» я сделал, как вы знаете, лет 35 назад. Поэтому я хотел бы поставить Чехова, как я его вижу. Ведь смысл очень простой. У каждого человека, который пытается делать Чехова, есть какие-то задачи. Вообще у режиссера задачи есть какие-то. Задачи какие могут быть? Задачи могут быть — выразить свое отношение к пьесе. Задачи могут быть — понять, что Антон Павлович хотел сказать. Задачи могут быть — выразить себя за счет Чехова Антона Павловича.
А ваша?
Вот у меня задача одна: я сделал спектакль, думаю о том, только бы Антон Павлович не был расстроен. Я пытался сделать пьесу, которая бы волновала. Дело в том, что можно сделать очень современно по форме, а волновать не будет, или будут какие-то идеи, которые не имеют отношения к идеям Чехова.
Вот в пьесе «Чайка» один из персонажей — драматург, я имею в виду Треплева. И там есть некая цитата из его пьесы: «Люди, львы, орлы и куропатки. . .» Не знаю, как это решено у вас. Как вам кажется, почему сегодня, в 21 веке, театр пошел по тому самому пути, над которым иронизировал Чехов? Вот эти спектакли про людей, львов, орлов и куропаток, вот такие странные мистические истории, они сейчас заполонили сцены московских театров. Почему театр скорее идет по пути Треплева, чем по пути Чехова?
Я думаю, что мир идет по пути Треплева, чем по пути Чехова. Я думаю, что Чехов как раз увидел, может быть, интуитивно угадал, что амбиции людей важнее, чем истина. У чеховских героев люди, как правило, думают о себе совсем не то, что они сами представляют из себя. Они все думают о себе иначе. Либо они думают, что они хуже, чем есть на самом деле, либо намного лучше, чем есть на самом деле. Собственно, мы все так думаем о себе. Как правило, мы никогда не знаем. Только большие, великие умы в человечестве к концу жизни, может, понимают реально свое место.
Но так было всегда.
Я думаю, что так было всегда.
А почему именно сейчас мы пошли по пути Треплева?
Так было всегда. Дело в том, что до начала 20 века все-таки мировое искусство развивалось не в отрицании прошлого. Оно развивалось в последовательной преемственности великих гуманистических традиций, если говорить таким высоким языком. Оно боролось с этим, но никогда не отрицало. С начала 20 века, где-то вот 10-е годы, начиная с футуризма, уже ясно, уже декаденты появились. Они хотели разорвать с прошлым. И потом успешно разорвали абсолютно с прошлым. Поэтому модернизм, постмодернизм и прочее. Это настолько отрицание прошлого, что, я думаю, что мировое европейское искусство находится в очень серьезном кризисе. Об этом Солженицын написал великую статью лет 20 назад, которая называлась «Беспощадный поиск новизны, и как он разрушил 20 век».
И чем это все кончится, как вам кажется?
Я же не Кассандра. Я думаю, что центры мирового искусства переместятся в те культуры, в которых сильнее, чем новации. Китай, Юго-Восточная Азия, Индия, Латинская Америка. Там, где национальные культуры настолько сильны, что они в состоянии противостоять глобализации.
Звонок: Я - француз. И в Париже я смотрел вашу постановку несколько лет тому назад. И я хотел бы знать, почему вы хотели сегодня cделать другую постановку в Москве? Почему «Чайка» еще раз?
«Чайку» можно ставить много, много раз, как и все остальное, что является шедевром. И то, что я делал с Бинош в Париже, и Андре Дюсолье, она намного отличалась от этой пьесы. Я изменился. Мое представление о Чехове изменилось. И потом Треплев у меня там был гораздо более героический. Здесь это очень несчастный неадекватный человек. Надо же все-таки понять, почему этот человек не нашел себе места в жизни, почему он в конце концов ушел из жизни самовольно? Это довольно сложный процесс, чтобы понять это. Вообще людей всех надо любить, понимаете? Какие бы они не были противные, потому что других людей у нас нет.
Вот это вопрос, который я вам хотел задать. Я не видел вашего спектакля. Я видел замечательный спектакль «Вишневый сад» в постановке Алексея Бородина в Молодежном театре. На мой взгляд, лучшая чеховская постановка. И я смотрел спектакль и увидел, что люди, которых описывал Чехов, мне кажется, персонажи «Чайки» тоже, не очень приятные, и дружить с ними не хочется. И Чехов к ним относится как исследователь, который смотрит в микроскоп на насекомых. Я так понимаю, что вы с этим не согласны?
Нет. Я думаю, что в письме к Суворину, по-моему, Чехов писал: «Вы мне говорите, что у меня нет определенной идеи, вы меня упрекаете, что у меня нет идеалов. Вы хотели бы, чтобы я, описывая конокрада, говорил, что красть коней — это грех. Да это и так все знаю. — Он говорил, — Я просто описываю людей, какие они есть». Все.
Но они есть очень неприятные.
Нет. Но у меня в пьесе они не неприятные. Они просто амбициозные, наивные и думают о себе иначе, чем они есть на самом деле. Но, вы знаете, в провинции особенно, столица — это другая мулька, как говорится, в столице люди очень надменные, в любой столице, а в провинции люди по-другому. Вот вы поезжайте в провинцию, и там есть свой Сальвадор Дали, там в Саратове. Он ведь искренне считает, что он не хуже Сальвадора Дали.
Скажите, вот вы человек, в общем, немолодой.
Почему? Кто вам сказал, что я не молодой человек?
Ваш сын мог бы быть по возрасту Треплевым. Вы бы хотели, чтобы у вас был такой сын?
Во-первых, мой сын по возрасту уже Тригорин, а не Треплев.
Ну хорошо, пожалуйста, Тригорин. Вы хотели бы, чтобы у вас были такие дети, у вас много детей, как Треплев и Тригорин?
Тригорин очень интересный человек. Треплев — несчастный человек. Я бы не хотел, чтобы мой сын был как Треплев, просто потому, что он очень несчастный человек по ряду обстоятельств. В моей пьесе другие обстоятельства, хотя я ни одного слова не менял.
А Тригорин чайку убил от нечего делать, загубил?
Ну, во-первых, Треплев убил чайку, а он загубил Нину Заречную.
Нет. Но от нечего делать загубил чайку?
Ну ладно, ну от нечего делать. У нас сколько мужчин сходятся и расходятся, поматросил и бросил? Да всю жизнь происходит. Посмотрите, сколько одиноких матерей в мире ходит. Это что такое? Это все не Тригорин? Настолько типичная форма взаимоотношений между полами.
То есть он поступил с Заречной, на ваш взгляд, нормально?
Он поступил, как он поступил. Вы знаете, норма — это то, что обычно общепринято.
Но мы можем как-то относиться к этому? Это же персонаж?
Мы можем это осуждать.
А вы?
Да, лично я. Смотрите пьесу. Я не могу говорить, что я осуждаю. У меня вообще моральной категории в этом смысле не должно быть. Я как автор пытаюсь понять. И главное, что я пытаюсь испытать счастье и удивление вместе с моими артистами по поводу того, что мы делаем.
Звонок: У меня вопрос к Андрону Кончаловскому. Вот сам Чехов говорил, что через какое-то время мои пьесы устареют. Я с ним согласна. Действительно, пьесы Чехова сейчас уже устарели. Там нечего переигрывать, вот как вы говорите, что гениальную пьесу можно сыграть в нескольких вариантах.
Знаете, вы так считаете, это ваше право. Но, может быть, там Питер Брук или Серджио Стреллер, или еще несколько великих режиссеров в мире так не считали. И каждый раз, когда они делали эту пьесу, они открывали что-то новое. Можно с таким же успехом сказать, что пьесы Эсхила, трагедии, устарели, что трагедии Шекспира устарели. Но, мне кажется, устарели не тексты, устарели концепции, которыми руководствуются некоторые режиссеры, ставя это. То, что волнует, не может устареть. Вы же не видели моей пьесы, судя по всему? Если вас волнует, значит, не устарело. А если не волнует, значит, устарело.
Вы сказали в начале нашей беседы, что у вас грандиозные театральные планы или мечты. Значит ли это, что вы в ближайшее время будете заниматься театром и не будете заниматься кино?
Я всем буду заниматься, и театром, и кино. Просто я гораздо большее удовольствие получаю в театре, чем в кино.
Почему?
Потому что в кино — это производство. Вы понимаете, что такое производство? Пришел утром, надо снять там 424 метра. Люди стоят, дождик идет, снег валит. Надо снять, уехать домой. В театре ты приходишь на репетицию и занимаешься только одним — поиском истины, бескорыстным поиском истины.
А как же свет, звуки, монтировщики?
Это все там где-то. Вы занимаетесь репетиционным периодом. Вы шесть недель с артистами пытаетесь понять, что скрыто за этими словами.
Вы поставили «Чайку» за шесть недель?
Восемь.
Два месяца?
Два месяца, с утра до вечера. По дню целиком. Так надо и ставить, может быть, чуть побольше.
У вас есть какие-то конкретные планы, связанные с кино или театром, чтобы вы сказали, вот тогда-то я начинаю?
Нет. Таких конкретных нет. Я на будущий год должен ставить музыкальный спектакль «Преступление и наказание», который мы писали 25 лет с Артемьевым, Розовским и Ряшенцевым. Вот на будущий год, я думаю, будем ставить, даст бог, «Преступление и наказание». Потом там есть еще «Дядя Ваня» в Париже.
Это мюзикл?
Есть такое слово нехорошее. (?). У нас нет такого слова. Это не рок-опера, это такой спектакль, с большим количеством.
Ну там будут петь или говорить?
Петь.
Только петь?
Только петь.
На текст Достоевского?
Ряшенцева. Текст Ряшенцева.
А что касается кино. У вас есть какие-то планы?
Есть разные планы. У меня Рахманинов, сценарий лежит про Рахманинова, который тоже, может быть, устарел с точки зрения некоторых. Вы знаете, я готов ставить цирк. Мне интересно.
Какой цирк?
Вообще в цирке поставить представление можно. Все интересно. Оперы же я ставлю. Вот балет еще не ставил. Цирковое представление почти ставил уже.
Правильно ли я понимаю, что когда вы приходите в театр ставить, например, Чехова, главное будет не мотив, а интересно и не интересно? Интересно — делаете. Не интересно — не делаете. Что вас двигает?
Вы понимаете, вот человеку хочется залезть на Эверест. И он лезет. Иногда ломает себе шею, иногда залезает, иногда отмораживается, а иногда замерзает там. Ставить Чехова — это как залезать за Эверест для режиссера. Но я для себя считаю, что нет ничего более сложного, чем поставить классику великую.
Замечательный вы сделали финал нашей передачи.