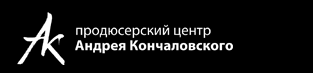Андрей Кончаловский снял фильм о настоящей России
На Венецианском кинофестивале 5 сентября покажут новый фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Это исключительный фильм по многим параметрам.
В фильме снималась всего одна профессиональная актриса. В этом отношении новый фильм Кончаловского превосходит его прежнее достижение в три раза. В «Асе Клячиной» (1967 г.) тоже играли жители реальной деревни, но там было задействовано и три профессиональных актера.
Главное в новом фильме, однако, не то, что жители деревни в Архангельской области играют сами себя. Это неудивительно: миллионы деревьев и десятки тысяч домов тоже играют самих себя во множестве фильмов, и это никого не поражает. Но то, что люди сняты в этом фильме так, как деревья или дома, показывает, что главное действующее лицо — не они.
Да и повествовательного сюжета в фильме почти нет. Как говорит Тряпицын, Кончаловский сначала просто просил их снять, как они живут: «Как сделаете, так и сделаете». Интрига и фабула были добавлены в конце съемок.
Главное действующее лицо фильма — Россия, которая и состоит из сплетения этих людей, домов, деревьев, земли, воды, пропавшей моторки почтальона Тряпицына и космического корабля космодрома Плесецк, находящегося неподалеку. Снимать Россию сложнее, чем человека или дерево: она не попадает и никогда не попадет в объектив вся сразу. Поэтому люди играют в фильме роли не менее, но и не более важные, чем дома.
Это особая Россия. Не новая, хоть в фильме есть и космодром, и современный город с его удобствами и расстройствами, а старая, святая Россия. Кадры с деревенскими домами, за которыми видны заливы, разливы и просторы Кенозера, дают неизбежное и неизбывное ощущение: ты находишься в прозоре. Это термин, знакомый историкам русской культуры и архитектуры. Дмитрий Лихачев писал об экологии культуры, ссылаясь на тезис книги Гали Алферовой о древнерусском градостроительстве. Она утверждала: якобы хаотичная застройка некоторых древнерусских городов (от которой потом попытались отказаться начиная со времен Екатерины II) была воплощением принципов византийского градостроения.
При строительстве зданий надо обязательно делать большие зазоры между домами, дабы каждый из них имел прозор — вид на церковь, холм, воду, море. Теперь архитекторы называют это «архитектурной доминантой». Так говорится в византийском «Прохироне» — буквально: подручном справочнике, переведенном на русский язык в XIII в., а в середине XVII в. включенном в первую печатную Кормчую царя Алексея Михайловича как «Закон градский».
Каждый дом должен иметь доступ к возвышенному. Тот, кто блокирует доступ соседа к высшему, будет наказан. Потому в древнерусском городе обычно не было сплошной застройки стеной к стене вдоль одной линии улицы. Если мы посмотрим на исторические виды и планы северных городов Устюжны-Железнопольской и Каргополя (последний совсем рядом с Кенозером, где снимал Кончаловский), то увидим двухрядную застройку. Дома стоят, чередуясь по диагонали, почти как шашечки такси — чтобы один дом не блокировал прозор другого.
Надо отдать должное Кончаловскому: сознательно или несознательно он искал старую Россию в правильном месте. Еще один греческий трактат по «градским законам» — Константина Арменопула (XIV в.) — остался в рукописном переводе в двух экземплярах. В Москве его сделал знаменитый Епифаний Славинецкий (теперь кто-то скажет, что он был малороссом, а кто-то — что украинцем) в 1663 г. Второй перевод сделали в архиерейском доме в Холмогорах в 1686 г. и передали архангелогородскому и холмогорскому воеводе. Не потому ли многие, шедшие по стопам Алферовой и Лихачева, искали древнерусскую или греческую святость в архитектуре и градостроении северных краев?
Фильм Кончаловского продолжает эту традицию. Было бы натяжкой сказать, что разброс нескольких домов деревни, которую снимал Кончаловский, воплощает в себе принципы византийского «Прохирона» или русского «Закона градского». Но солнце, вода, природа Кенозера, схваченная камерой умелого оператора, сообщает зрителю «океаническое чувство». Так, Фрейд с подачи Ромена Роллана говорил о кажущейся основе всех мировых религий: тебя захватывает что-то бесконечно большее, чем ты, и ты чувствуешь себя как на океанском лайнере посреди безбрежных далей. Тебя пронизывает острое чувство единения с этим безбрежным миром, с вышним существованием, ты чувствуешь себя песчинкой этого мира, связанной с ним единой судьбой.
Кончаловский дает зрителю возможность оказаться в прозоре. Его камера сажает зрителя в позу и позицию древнерусской веры. От этого никуда не деться, этим фильм и велик: он дает доступ к величию, которое мы обычно не видим, живя в застройке современных городов.
Важна и манера медленного разглядывания любого феномена. Не потому, что это может напомнить манеру съемок Тарковского. Это дает новое видение, отбирает предметы у скучной обыденной реальности. Ведь что, казалось бы, может быть привычнее для русской деревни, чем несколько покосившихся серых домов на берегу реки или озера?
Кончаловский заставляет нас видеть заново, блокирует наше предзнание того, что мы сейчас увидим («а, ну да, это обычная серая деревня»), и заставляет медленно, детально рассматривать. И чувствовать, что мы не знаем, хоть и думали, что знаем. Это сродни тому, что настигает Сартра в «Тошноте», когда пропадает предзнание, что ты видишь дерево, и можно, сидя на скамейке в саду, с замиранием и ужасом смотреть на поверхности и переплетения («а что, если это не кора, а клубок темных змей?»).
Это сродни тому, что Тимоти Лири описывал в лекциях про ЛСД, а Вальтер Беньямин — в эссе про опиум и «мирское озарение». Эти вещества лишают человека предзнания, и можно часами с неподдельным интересом рассматривать мелкие детали простого стола. Ребенок имеет ту же способность без одурманивающих веществ или упражнений по стяжанию мирского озарения. Кончаловский возвращает ее нам через свой фильм.
В нем много алкоголизма — и не потому, что русская деревня им пропитана, а потому, что алкоголь играет для русского человека роль суррогатной «лестницы в небо». Быстро и дешево человек получает доступ к иной реальности (часто кажущейся прекрасной по сравнению с той, из которой он только что улетел) и к настоящей, истинной коммуникации (способность критического суждения подавляется, становится возможным задушевный разговор, когда слова летят прямо в душу). Церковь потому и боролась веками с одурманивающими веществами как суррогатом спасения и доступа к миру иному, возвышенному и полетному. Кончаловский дает нам нецерковный доступ к миру древнерусской веры, обходясь без суррогатов.
Многие современные фильмы обзорны, а не медленно детальны, озорны, а не серьезны, позорны, а не достойны. Иногда их зазорно смотреть. А этот фильм ставит нас в прозор. Первое значение этого древнерусского слова — «вид на что-то, перспектива, окно». А второе — «дар провидения, прозорливость». Фильм Кончаловского на фоне всей нынешней консервативной риторики о России дает нам прозрение в то, что она есть.
Олег Хархордин